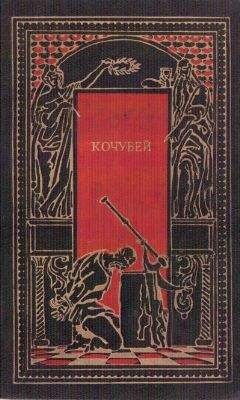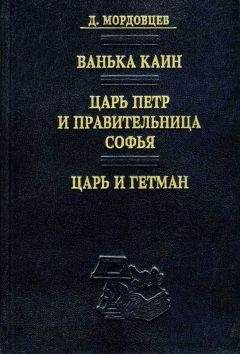— Караул! Караул! — послышались отчаянные крики.
В канале кто-то барахтался, беспомощно хлопая об воду руками и глухо взывая о помощи... Из воды показывается ещё одна голова, потом другая... Всё это отчаянно мечется, утопающие хватаются один за другого... видна последняя, безумная, молчаливая борьба из-за последнего дыхания, и все трое исчезают под водой...
Царь первый бросается спасать утопающих... Но как? Чем?
— Лодок! Багров! Сети! — кричал он громовым голосом, так что вся крепость встрепенулась, тысячи рабочих солдат и матросов бросились к каналу, заслышав крик царя, и некоторые матросы отважно ринулись в холодную апрельскую ледяную воду...
— Лодок! Багров! — гремит голос царя. — Кто утонул?
— Доктора Лейма, государь, я опознал, — отвечает Ментиков.
— А я, государь, видел Кенигсека и Петелина, — прибавил Ягужинский.
— Господи! Какое несчастье!
— Но вот и лодки с баграми... В одну из них прыгает царь с такою поспешностью, что едва не опрокидывает её; да ему это нипочём, он любит воду.
— Государь!! Береги себя! — кричит испуганно Ментиков.
— Ищи там! Подавайся ниже!..
Лодки бьются на месте, толкутся в узком канале, словно в ступе, а утопленников всё не найдут.
— Спускай ниже!.. Их водой несло... подайся сюда! — командует царь, бороздя воду длинным багром.
Лодки стукаются одна о другую. Меншиков постоянно повторяет, чтоб берегли царя. Берега канала усыпаны народом, который напряжённо ждёт... Иные крестятся.
— Кто утонул?
— Немцы, паря.
— Туда им, куцым, и дорога, — отзывается кто-то.
Наконец, багор царя зацепил что-то, тащит... Из воды показывается что-то серое... спина человеческая, а голова и ноги в воде... Приподнимается багор выше, виден затылок утопленника и чёрные, мокрые волосы, падающие на лицо...
— Благодарение Богу… Кенигсек бедняжка…
Царь быстро схватывает его за шиворот и втаскивает в лодку.
— Ищи других, тут должны быть, — распоряжается царь.
— Не клади, не клади, царь-государь! — торопливо предупреждает старый матрос. — Не клади наземь, не отойдёт, не откачаешь.
— Качать! Качать! — слышатся голоса.
Лодка пристав берегу. Утопленника, словно мешок, слабо набитые чем-то мягким, с рук на руки сдают стоящим на берегу. Царь, проворно сбросив с своего громадного тела кафтан, в который можно было завернуть двух утопленников, кидает его на берег.
— Качайте на моём кафтане!.. А ты, Данилыч, обыщи его карманы, может, есть важные бумаги, государственные, запечатать надо тут же...
— Ещё тащут! — дрожит толпа. — Вон, вон, матушки!
Снова из-под воды показывается что-то скомканное, перегнутое, мёртвое, но ещё не окоченевшее... А Кенигсека кладут на царский кафтан. Меншиков, исполняя приказ царя, опоражнивает карманы утопленника и найденные у него мокрые бумаги тут же вкладывает и небольшой сафьяновый портфель и отдаёт Ягужинскому.
— Запечатай тотчас и сохрани.
Кенигсека качают. Беспомощно переваливается мёртвое, посиневшее тело по кафтану. Из-за спутавшихся мокрых волос, падающих слипшимися прядями на лицо, шины красивые очертания этого молодого, ещё за несколько минут полного жизни лица... теперь оно такое серьёзное, молчаливое, застывшее...
— Лекаря бы надо, — с беспокойством говорит Ментиков, сильно встряхивая царский кафтан.
— Да вон и лекаря тащут, — отвечает юный Павлуша, который всё видит и всё слышит.
Действительно, из другой лодки выносит на берег другого утопленника — это доктор Лейм... Отыскивают, наконец, и Петелина...
В трёх местах на берегу канала идёт энергическое качанье трёх свежих трупов. Пётр не спускает глаз с Кенигсека. Ему особенно жаль его, надо, во что бы то ни стало, оживить этого мертвеца, откачать, отнять у смерти... Она ещё не успела его далеко унести... Душа его тут, близко, может быть, за теми плотно сжатыми красивыми губами... Стоит только их разжать, и они порозовеют, язык заговорит, душа скажется... Пётр трогает эти губы, холодные такие, мёртвые...
Кенигсек, или Кенисен, как называл его Пётр, был саксонским посланником при русском дворе; а недавно, прельщённый выгодами службы в России, он поступил в русское подданство, и Пётр был очень рад приобрести себе такого служаку... И вдруг, на глазах его, он погибает! Это большая потеря...
Но, может быть, он отойдёт... Он так недолго был под ногой... Правда, вода ледяная, режет, обжигает своим холодом.
— Что, Данилыч?
— Трясу, государь... Душу, кажись бы, всю вытрясти можно, кабы...
— Кабы не отлетела?
— Да, государь.
Царь нагибается к трупу, щупает голову мертвеца — холодна, как глыба. И тело коченеет.
— Помре... Царство ему небесное... — Царь снимает шляпу и крестится, крестится и толпа. — Вот не ждали, не гадали... Вместо радости печаль.
— Надо же было, государь, немецкому водяному и жертву принести водою и немцами, — заговаривает Ментиков.
— Правда... правда... А всё за мои грехи.
— За всех, царь-государь...
— А бумаги вынул?
— Вынул, государь... У Павлуши.
Но царю некогда долго останавливаться на этом печальном эпизоде. Надо спешить вперёд. Шереметев с войском, поди, уж у Ниеншанца. Надо с лёгкой флотилией плыть на сикурс к нему.
Царь велит с честью похоронить утопленников и готовиться в поход под Ниеншанц.
— А об Симке не забыли? — вспоминает царь о маленьком оборвыше.
— Нет, государь, — отвечает Меншиков. — Неумедлительно иду сыскать его отца, и всё учиню, как ты, государь, указать изволил.
— Изрядно. Тут потеряли, а там, может, бог даст, найдём.
Истинно, государь: не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
— Дай Бог... Кто знает, что может из Симки выйти. Пути Господни неисповедимы…
В то время, с которого начинается наше повествование, весной 1703 года, Петербурга ещё не существовало. Нева принадлежала шведам, равно как и всё Балтийское море, в только небольшой камень, на котором, при выходе Невы из Ладожского озера, ютилась шведская крепость Нотебург, древний новгородский Орешек, — был взят Петром, укреплён и переименован в Шлиссельбург вместо Орешки. Петру так нравились немецкие названия.
После Шлиссельбурга надо было, во что бы то ни стало, отвоевать и всю Неву. С этой целью, похоронив Кенигсека и других его несчастных товарищей по смерти, он двинул свою лодочную флотилию вниз по Неве, с тем чтобы идти на помощь Шереметеву, который с двадцатипятитысячным войском тоже подвигался к Неве имея намерение напасть на Ниеншанц, стоявший при впадении речки Охты в Неву. На месте же нынешнего Петербурга чернел сплошной дремучий лес.
Лесом покрыты были и все берега Невы вплоть от Ладожского озера до устья реки, до Финского залива.
Спускаясь с своей небольшой гребной флотилией вниз по Неве, Пётр был глубоко взволнован всем, что видел перед собою. Угрюмый бор, покрывавший берега реки, он уже превращал в пылком воображении своём в бесчисленные армады кораблей, и эти армады будут не чета «непобедимой армаде» Филиппа II, короля испанского. Нет! Его армады будут действительно непобедимы... А эта многоводная река, но которой скользила его флотилия, такой реки он не видал во всей Европе. Что Волга! То река неустойчивая, с расползающимися, песчаными берегами. А Нева — она точно закована и свои берега и несёт постоянную неубывающую массу воды в то заманчивое, чужое, Варяжское море... О! Тут, на этой реке, должна быть столица России...
И пылкое воображение царя уносится вдаль, в глубину грядущих веков... При устьях Невы видится ему величавый город, столица восточных царей, к которой обращены удивлённые взоры всего света. Со всех морей и океанов, от всех народов Старого и Нового Света плывут корабли в этот величавый город, в город Петра... Петроград... Нет, это слово противное, Москвой затхлой пахнет, византийским ладаном отдаётся. Не быть тут Петрограду, довольно и византийского Царьграда... А будет тут Россенбург или Ризенбург, город богатырей... Нет, пусть лучше будет тут Питербург... Да, это лучше всего... Он будет славен, более славен, чем Тир и Сидон, более славен, чем Рим и Карфаген... Он будет весь на воде, как Венеция. Каналы изрежут его вдоль и поперёк... Вода, море-океан станут колыбелью российского народа…
А флотилия, взмахивая длинными вёслами ловких гребцов словно стая длиннокрылых птиц неслышно пенит прозрачную невскую воду. С каждым взмахом весел, с каждым поворотом руля открываются новые пустынные берега, окаймлённые зелёными борами, а выше — голубым небом… На берегах ни души человеческой, да и пения птиц не слышно, хотя самая пора бы петь и птице, и человеку: апрель на исходе... Только и виднеются над водой длиннокрылые, белогрудые чайки, которых жалобный скрипучий крик, совсем не похожий на крик серой, чубатой! южной чайки, нарушает могильную тишину этой красивой, но холодной, неприветливой природы...