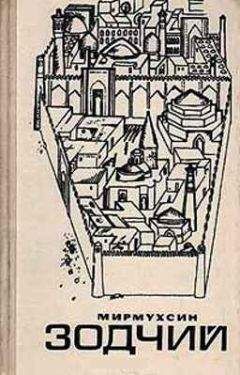А Бансункура-мирзу, не отлучающегося от матери, преследовало видение: он словно воочию лицезрел новое медресе и великий минарет Мусалла — подлинную гордость столицы. Эти жемчужины всего Хорасана были созданы руками устада Кавама и устада Бухари.
Деды и прадеды Наджмеддина происходили из Бухары, а он вел свою родословную от Хурдаки Бухари. После того как Тимур разгромил движение сарбадаров[7], оставшиеся в живых участники восстания рассеялись по всей стране. Так Наджмеддин оказался в Хорасане. Придворная знать была осведомлена об этом.
В сердце Байсункура-мирзы закралось тревожное подозрение: «Уж не скорпион ли под подушкой этот Наджмеддин Бухари?» Своей тревогой он поделился с матерью, но Гаухаршодбегим посоветовала сыну ждать, не выказывая недоверия к людям достойным, а тем паче не преследовать их до тех пор, пока все не станет ясным.
Но печальнее всего было то, что изгнание Мир-Ка-сыма Анвара и заключение под стражу мавляны Маруфа Хаттота вселило тревогу в сердце Джафара Табризи, Юсуфа Андугани, устадов Кавама и Бухари.
Узнав об этом, Байсункур-мирза безмолвно склонил голову перед братом Ибрагимом Султаном. Брат прекрасно знал, что все эти «мавляны» пользовались не только покровительством Байсункура, но и особой его милостью. Недаром год тому назад Байсункуру, как покровителю зодчих и ученых, был присвоен сан «высшего правителя государственного совета».
Окинув беглым взглядом лекарей, толпившихся у постели отца, Байсункур удалился в свои покои во внутренней части дворца. Он шел и вспоминал тот день, когда брат Мирза Улугбек прислал к нему человека с просьбой отпустить Ходжу Юсуфа Андугани и он, Байсункур, отправил в ответ язвительное и надменное послание, вместившееся в два фарсидских бейта, что пришлось не по душе Мирзе Улугбеку.
Каждому было известно, что Улугбек-мирза в Мавераннахре, а Суюрготмыш в Адаке неустанно пеклись о благоустройстве областей и провинций, подчиненных их власти, но самой первой заботой были наука и искусства.
Байсункур-мирза выделялся среди братьев своей одаренностью, сметливостью и предприимчивостью. Позднее отец назначил его правителем Туса, Мешхеда, Астрабада, Джурджона, но он и не подумал двинуться с места и постоянно жил в Герате, под крылышком своей матери Гаухаршодбегим.
В пятницу среди ночи вооруженные нукеры ворвались в дом зодчего Наджмеддина Бухари. Они подняли с постели его сына Низамеддина, скрутили ему за спиной руки. Растерянному и дрожащему от ужаса старику отцу они сообщили, что выполняют, мол, приказ государя.
Сердце старого зодчего разрывалось на части. Сын, совсем еще мальчик, только что вернувшийся с Ферганского сражения, был бледен как полотно и в замешательстве поглядывал то на отца, то на рыдающую мать. Он не сопротивлялся. Сабля его висела во внутренней комнате на гвозде в нише, и он не мог до нее добраться.
На мольбы отца отпустить юношу, на все его вопросы, в чем виноват сын, ответа не последовало.
Не успели домашние опомниться, как стражники, грубо подталкивая Низамеддина, повели его по двору.
— Я буду жаловаться его величеству, — кричал зодчий, преграждая путь нукерам.
— Ваш сын арестован именем его величества. Если что не так, обращайтесь с жалобой к его светлости царевичу, — огрызнулся стражник, обнажая меч.
— Это роковая ошибка? — простонал зодчий, стоя босиком на пороге. — Низамеддин! Ты слышишь меня, я пойду к его величеству. Ведь ты ни в чем не виноват. Я все объясню. Не бойся, сынок. — Старик так и не не успел обуться и шел по двору за стражниками босой. — Только не бейте его, — молил он, — это роковая ошибка, ведь вы же мусульмане, нет на нем вины, не причиняйте же ему боли, дети мусульман. Как только рассветет, я пойду к его величеству.
— Безмозглый старикашка! «Не причиняйте боли»! — проворчал стражник, тот, что обнажил меч. — Знал бы ты, каков твой сын. Знал бы, так не молол чепухи. А ну, шагай быстрее, — он толкнул Низамеддина.
— Прощайте, отец, простите меня, мама, — негромко промолвил Низамеддин.
Перепуганная Бадия, дочь зодчего, сестра Низамеддина, широко открытыми глазами смотрела на стражников, уводящих брата. Она знала, что дамасская сабля Низамеддина висит в нише. И ждала только знака брата, чтобы сорвать ее со стены. Но он так и не успел подать знак. И она не успела ему помочь.
Стражники ушли, и над двором повисла пугающая тишина. Зодчий решил немедленно, не дожидаясь рассвета, отправиться во дворец.
Всю жизнь он верой и правдой служил своему псвелителю. И что же? Его дом опустел, единственного его сына заключили под стражу. Где же справедливость? Не вернее было бы прийти к отцу и за беседой с ним выяснить все обстоятельства дела, если сын впрямь в чем-то и провинился. Но поднять среди ночи с постели мальчика, скрутить ему руки, увести… Да это же произвол. Насилие… Знает ли об этом великая госпожа? А Байсункур-мирза? Неужто дали они согласие на такое беззаконие, неужто усомнились в верности преданного нм человека? За что же такая кара? За какие прегрешения? Быть может, между царевичами снова начался раздор? Он слышал, еще давно слышал, что раздоры между царевичами вносят смуту и держат в тревоге все государство. А страдает от этого простой народ.
Значит, снова не поладили Байсункур-мирза и Ибрагим Султан? А может быть, покушение на государя разожгло вражду между братьями? Быть может, по этой же причине не отпустили в Самарканд к Улугбеку мавляну Юсуфа Андугани?
Босой старик неподвижно стоял посреди двора, бессмысленно глядя на распахнутую калитку. Перед его мысленным взором мелькали лица вельмож, воинов, стражников. Какое имеет отношение он к ним, к их интригам? Как можно было связать юноше руки и тащить его в крепость?
Наджмеддин оперся о посох, он так и стоял, словно каменное изваяние, и все глядел на распахнутую калитку, ту, через которую увели сына, Он не обращал внимания на причитания жены, вернее, просто не слышал их.
Бадия глядела на отца горящими глазами и все ждала, что он скажет хоть что-то и объяснится весь этот ужас. О, зачем она спала так крепко, — если бы она услыхала шаги стражников, если бы успела подать брату саблю или сама бросилась на стражников с кинжалом. На худой конец, помогла бы брату бежать. Господи! Господи!
Наконец зодчий опомнился: бессмысленно стоять вот так посреди двора, нужно идти, нужно что-то делать. Идти во дворец? Но сейчас ночь, и кто знает, добредет ли он до дворца по темным гератским улицам и закоулкам?
Он вошел в дом. Калитка так и осталась распахнутой, он не стал закрывать ее. Поставив посох в уголок передней, зодчий повесил на гвоздь чекмень и молча сел. Бадия опустилась на корточки рядом с отцом. Она глядела на него, умоляя взглядом утешить мать, сказать хоть слово. Собрав всю свою волю, старик погладил дочь по голове:
— Надо набраться терпения, иного выхода у нас нет… Я уверен, это недоразумение, страшное недоразумение, все выяснится. Если бог смилостивится над нами, Низамеддин вернется еще к рассвету. Может, его заподозрили в чем-то, а может, кто-то оклеветал его. Они допросят его, дознаются истины и отпустят. Он ни в чем не виноват. Да и что такое он мог сделать? Мой сын честный человек, он, как и я, предан престолу. А я верно служил еще его величеству Амиру Тимуру и его величеству Мирзе Шахруху. В чем могут упрекнуть старого мастера? И разве сын мой способен пойти против царской семьи? Я и сам уже ничего не понимаю. Здесь явная ошибка, и правда откроется. Низамеддина освободят.
— Мне говорили, что между Низамеддином и Худододбеком вышли какие-то неприятности, — рыдая проговорила Масума-бека.
— Не говори глупостей, жена. Худододбек друг твоего сына, он благородный юноша. И он сын моего бесценного друга устада Кавама. Не могут они совершить ничего дурного. Господин Кавам — мой учитель… Нет, нет, не мог Худододбек причинить нам такое зло. Если они и поссорились, так ведь за такой пустяк не бросают же в Ихтиёриддин. Пусть только рассветет, я тут же пойду к почтеннейшему Каваму, посоветуюсь с ним. Никогда не отказывал мне он в поддержке. И сейчас поможет. Его высоко ценят во дворце.
— Но устад Кавам здешний, гератский, а мы, а наш род… — Ну и злой же у тебя язык, никогда не смей говорить так. Это грех, — гневно прервал жену Наджмеддин. — Хорасан и Мавераннахр под одним знаменем, и мы всегда верно служили его величеству. В наши сердца, в сердца зодчих и творцов, никогда не закрадывалось даже тени сомнений. А уж устад Кавам и подавно не знал и не знает их.
Масума-бека замолчала.
— Конечно, то, что Фазлуллах не дал заглохнуть в сердцах своих приверженцев извечной ненависти и злобе и они с упорством добиваются своего, не может не разгневать сильных мира сего. Да сохранит всевышний великого владыку, поскорее бы затянулась его рана. Тогда воцарятся мир и спокойствие, тогда и горе развеется. Ну и пусть наши деды были связаны с Хурдаки Бухари, к нам это касательства не имеет. Я доказал это своей беспорочной службой, своей преданностью престолу. Устад Кавам это знает. Да и все знают.