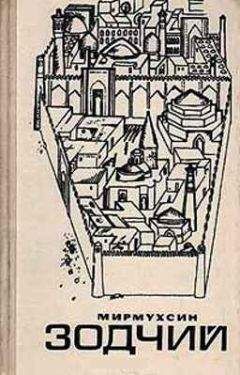Встреча зодчего Бухари с устадом Кавамом получилась не совсем обычной. У калитки Наджмеддина встретил Худододбек, почтительно поздоровался с ним, приложив руки к груди, и пригласил в дом. Приход друга отца, уважаемого человека, отца Бадии, привел в замешательство этого беспечного юношу. Он проводил высокочтимого гостя в комнату для гостей.
Зодчий вошел в просторную и красиво убранную залу и, прочитав короткую молитву, обратился к Худододбеку, и голос его не дрогнул:
— Прошу простить, что пришел так рано. Мне необходимо поговорить с устадом о важном и безотлагательном деле.
— Да что вы, что вы? Я сейчас позову отца.
Юноша поспешно поднялся с места и пошел во внутренний двор.
Через несколько минут явился сам устад Кавам с четками в руках, в накинутом на плечи халате и в кавушах на босу ногу. И его тоже, несомненно, удивило столь раннее посещение. Он поздоровался с гостем, пожав ему руку. Усадив Бухари на почетное место, хозяин велел сыну расстелить дастархан. Худододбек проворно удалился.
, Снова прочли короткую молитву, и устад Кавам взглянул на друга:
— Добро пожаловать.
— Доброго вам здоровья и радости, — ответил Бухари, грустно вздохнув.
И устад Кавам сразу же понял, что огромное горе теснит сердце Наджмеддина… «Может быть, в строительстве медресе произошла какая-то путаница? — подумал он. — Или израсходованы все выделенные средства?
Иногда ошибка обнаруживается в боковых башнях портала или в своде… или фундамент заложен неверно?». Бее эти мысли в мгновение ока пролетели в голове устада Кавама. Он подумал о том, что, когда возводился минарет Мусалло, да и многие другие сооружения, его дорогой друг беззаветно помогал ему своими знаниями, мудростью и удивительной искренностью и, несмотря на то, что оба зодчих были равно уважаемы, пользовались равным влиянием и были равны в званиях, Наджмеддин всегда возвеличивал устада Кавама, всегда готов был оказать ему любую помощь и услугу.
Наконец Наджмеддин Бухари поднял опущенную голову.
— Устад, стряслось большое горе. Ночью увели Низамеддина в Ихтиёриддин…
— Как? — выкрикнул устад. — В Ихтиёриддин?
Задав этот вопрос, он внезапно умолк.
До него дошли слухи о том, что Ахмад Лур, имеющий отношение к группе хуруфитов, совершил покушение на государя и что сейчас разыскивают его сообщников и бросают их в Ихтиёриддин. Значит, Низамеддин связан с ними? Значит, он среди тех, кто покушался на жизнь его величества… А ведь сейчас хуруфиты — самые опасные внутренние враги государства, опаснее даже сарбадаров.
— Причины мне неизвестны… — произнес Наджмеддин Бухари, пристально глядя в лицо Кавама. Он словно вымаливал у него помощи и спасения. Он знал, что Байсункур-мирза никогда и ни в чем не отказывал устаду Каваму.
— Это действительно огромное горе, — протянул устад Кавам, вникнув в суть происшедшего. Он слыхал, что отец его друга был некогда связан с Хурдаки Бухари, за что и был обезглавлен. Но чтобы сын такого уважаемого человека пошел против властей, как последний негодяй, — нет, это немыслимо. «Чего ему не хватало? Сын столь почитаемого зодчего! Ни в чем не было отказа! Эти проклятые хуруфиты — продолжатели злых деяний сгинувших сарбадаров — дошли до прямого злодейства, пристрастились к подлым делам», — думал устад Кавам. Помолчав немного, он посмотрел на Бухари. — Устад, — сказал он, — да облегчит господь его страдания, да вразумит его! Если вина его невелика, то скоро он будет освобожден…
— Но это же недоразумение, — проговорил Бухари, и на глаза его навернулись слезы. — Что он мог совершить такого, что его увели в Ихтиёриддин? Ведь туда бросают врагов государства, сквернейших людей, опаснейших преступников! Просто голова кругом идет!
— Молитесь богу, господь пошлет спасение и вашего сына освободят. Расследуют, и, если это недоразумение, его отпустят. Такое случалось, я сам слышал. Молитесь богу, нет у нас иного защитника и представителя.
— Я пришел просить вас поговорить с Мирзой, умолите его, пусть он проспит грех моего сына, если он совершил грех.
— Что же, можно, но ведь нам пока еще неизвестно, в чем именно провинился Низамеддин. Может, вам известно?
— Нет.
— А подозрение какое-нибудь у вас есть?
— Нет. Я его ни в чем не подозреваю.
— Тогда необходимо набраться терпения. Да, да, терпения.
Худододбек внес и расстелил дастархан. Он опустился на пятки и протянул гостю, а затем отцу душистый индийский чай.
Устад Кавам разломил лепешку и пригласил гостя отведать сладостей. Но кусок не шел в горло Наджмеддина, он отхлебнул из пиалы чаю и посмотрел на устада Кавама молящими глазами.
Устад Кавам понимал, что дело плохо, он знал и о том, что царевич Ибрагим Султан переворошил весь Герат, что обнаруживают и хватают не только врагов государства, но и лиц, подозреваемых в сопричастности, и что их жестоко наказывают. Этот дерзкий царевич не слишком-то жалует служителей науки и искусства, он глубоко убежден, что именно от них все зло, от них — образованных, от них — поэтов. Бывало, и не раз, что он пропускал мимо ушей даже слова брата своего Байсункура-мирзы. «Мой дед завоевал Запад и Восток, Индию и Китай не газелями, а мечом», — говаривал он. Подданные могли на деле убедиться, что этот царевич в своей жестокости в сотни раз превосходил прославленного деда. Устад Кавам до тонкостей изучил нрав этого царевича. И сейчас в душе его росла тревога. Он поднялся, отозвал сына и тихонько зашептал ему на ухо:
— Ступай-ка скорее на улицу и осмотрись. Не привел ли господин зодчий за собою соглядатая. Ночью забрали его сына. Если за зодчим слежка, а он пришел к нам, могут выйти неприятности.
Худододбек вышел. Устад Кавам вернулся к гостью и снова стал угощать его.
Почувствовав, что устад Кавам встревожен, и поняв, что, кроме слов «молитесь богу и терпите», от него ничего не услышишь, Наджмеддин Бухари поднялся.
Устад Кавам только этого ждал.
— Смотрели ли вы по сторонам, когда шли сюда? — спросил он в волнении. — Не крался ли за вами кто? Сейчас ведь, сами знаете, все кишит доносчиками.
— Я как-то не придал этому значения, устад, простите. Человек, попавший в воду, не боится промокнуть. Мне ведь все равно, приставлен ко мне соглядатай или нет.
Наджмеддин вышел в прихожую и надел кавуши. Он попрощался и зашагал по улице, а устад Кавам остался во дворе. Ему не хотелось, чтобы его видели вместе со старым его другом.
«Ну хорошо, — думал Наджмеддин Бухари, бредя по дороге, — на мою голову свалилась непоправимая беда, но не боюсь же я ничего. Так чего же боится мой друг устад Кавам? Бог мой, никому нет дела до чужой беды».
Чуть поодаль он увидел Худододбека. Тот боязливо озирался по сторонам, заглядывал в лица прохожих. Наджмеддин Бухари понял, что именно за этим и послал его отец.
Он шел по извилистым, вымощенным валунами улочкам, и из души его рвались слова: «Мне не дают спокойно работать. А я хочу работать, только работать. Хочу построить еще одно медресе, которое будет украшением Хорасана, в этом медресе будут набираться знаний дети хорасанцев. Хочу построить это здание на века… Не нужно мне ни денег, ни подарков. Я строю ведь для людей. Почему же мне не дают хотя бы душевного покоя. Даже пленному рабу и тому дают возможность работать спокойно. А мне нет. О боже, боже, тебя одного молю: дай мне хоть чуточку покоя, дабы успел я завершить труд мой. Верни мне сына, не сжигай в пламени отчаяния душу мою. Пусть не буду жалким перед другом и униженным перед врагом».
Пройдя по узким улочкам, зодчий вышел к кирпичному мосту Пули Малан. Остановившись на минуту на переброшенном через реку Герируд высоком мосту, он обратил взгляд в сторону цитадели.
Страшные стены крепости Ихтиёриддин гневно взирали на него.
На противоположном берегу реки Герируд, петлявшей по низине, теснились, жались друг к другу крыши домов, словно осиные гнезда лепились вокруг цитадели и крепости, и отсюда, с вышины, и они и извилистые, узкие улицы казались угрюмыми и хмурыми, не’ подвижно застывшими, как рисунок.
Весь Герат словно отвернул от него лик свой.
В крепости Ихтиёриддин, что на мешхедской дороге, на затхлом сыром полу лежит его сын Низамеддин, закованный в кандалы. В восточной стороне цитадели с самого утра многолюдно и, конечно, шумно. Ведь чуть поодаль Кандахарский и Маликский базары.
А дальше арык Инджиль. Все еще стоя на мосту, зодчий думал свою горькую думу. Встреча с устадом Кавамом только усугубила тоску и горе, поселившиеся в сердце его. Чего стоят хотя бы слова устада, пусть сказанные как бы невзначай, но пронзившие острой болью сердце старого отца, что вовсе это не ошибка, что бросают в крепость лишь тяжких преступников — «врагов государства», бунтарей. Неужели его Низамеддин — бунтарь и враг? Не может того быть. Ведь он еще совсем юнец, ведь он сын зодчего, заслужившего милость царской семьи. Ведь он участвовал в Ферганском сражении и удостоился личной похвалы и подарка самого Мирзы Улугбека. Может ли он, такой человек, стать врагом? Уму непостижимо. Не бывает такое! Не бывает! В моем роду нет преступников, и подозрения господина Кавама не только неуместны, но и неосновательны.