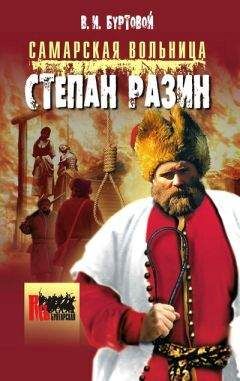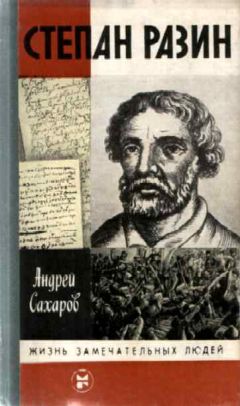— Как изловчишься, сынок, — снова засмеялся родитель и озорно подмигнул сверху. — Либо со сковороды блин отведаешь, либо сковородника! И еще помни, Никитушка, не рок головы ищет, а сама голова на рок идет.
— Нешто мы своей волей в этом водяном пекле оказались, тятенька? Стрелецкий рок толкнул.
— Рок толкнул, а ты стой, не падай! — возвысил голос с суровостью родитель, и на его землистом морщинистом лице застыла требовательная строгость. — Ну, вставай, будет тебе в сырости валяться! Час пришел свое счастье пытать! Во что святая не хлыстнет, глядишь, и на твою долю где ни то за морем каравай пекут! — И Никита с радостью и с ужасом одновременно видит, как родитель протягивает к нему длиннющую жилистую руку, которая словно на дрожжах растет из ставшего на диво коротким рукава кафтана. Невольный страх сковал Никите все члены, вот уже длинные пальцы отцовской руки совсем близко от его груди, вот сейчас они схватят его и поволокут, такого бессильного, крохотного и совсем невесомого…
«Так не в яму же тянет меня покойный родитель, — сквозь лед страха в голове проносится у Никиты успокоительная мысль. — Не в яму же к себе, а из ямы, к солнцу, к жизни!» — Он хочет протянуть навстречу родителю правую руку, силится и — не может! Но тут родитель подхватил его длинными пальцами под спину, как сам Никита в далеком детстве, бывало, подхватывал под брюшко пальцами тепленьких пушистых гусят, чтобы поднести к лицу и заглянуть в шустрые черные глазки-бусинки несмышленому птенцу.
— Во-от, поехали! — смеется родитель, сам не движется, а рука, подобно растянутой до предела резинке, сжимается и прячется в рукаве кафтана. — Во-от, зри на свет божий! Да родителя почаще вспоминай за столом и перед иконой…
Никита, словно вытряхнутый из руки-колыбели родителя, с грохотом падает на мокрую траву и зажмуривает глаза от ослепительного солнца…
Он очнулся от яркой вспышки над толовой — извилистый огненный зигзаг прочертил черное небо, резанул по глазам, пропал, а через миг трескучий раскат прокатился над только что высвеченными гребнями моря.
— Свят-свят! — прошептал, приходя в сознание, Никита, а сам мысленно отыскивал свою правую руку, чтобы перекреститься. И только повернув голову вправо, понял, что лежит на спине, с подвернутой рукой, у невысокого фальшборта. Саднила ушибленная голова, горло, и все нутро запеклось от соленой горечи.
«Должно, в беспамятстве наглотался морской воды, — догадался Никита, силясь вытянуть из-под себя затекшую до бесчувствия руку. — Когда упал, было еще довольно светло, а теперь ночь темная, хоть перстом глаз коли…» — Вздрогнул — над стругом сверкнула огненная изломанная стрела, ударила где-то за бушпритом, да так неистово, что Никите послышалось шипение опаленной волны. И тут же треск прошел над головой, словно под чьими-то преогромными сапожищами не выдержали и рухнули сухие стропила новенькой крыши…
Кое-как перевернувшись на левый бок, Никита сел, чувствуя за спиной натянутый канат. Правая рука тяжело повисла, будто железная, и он принялся пальцами левой руки разминать отмершие, похоже, мышцы, а сам, чтобы не покатиться по палубе, широко раскинул ноги. Застонал, когда сотни иголок разом впились в руку от плеча и до кончиков каждого пальца, потом боль на время стала сплошной, нестерпимой. Казалось, что кто-то по живому пытался выкрутить суставы и порвать жилы.
— Ох ты, Господи, да что это за муки адовы! — Никита заскрипел зубами, сдерживая стон, левой рукой поднял и опустил правую: пальцы, не чувствуя прикосновения, глухо, словно деревянные, бумкнулись на доски.
«И то счастье, что не рассыпались врозь, у ладони держатся пока, — усмехнулся Никита. — Ох ты, горе-то какое! Неужто вовсе рука отмерла? Что тогда делать, однорукому?» — Собрав в кулак всю силу воли, Никита заставил правую руку перевернуться на досках с ладони на тыльную сторону. И она — о диво! — перевернулась!
— Ну-ка, хапни что ни то в кулак покрепче, хапни! — сам себе приказывал Никита, стремясь стиснуть пальцы. А кулак у него был, как говорится, дай Бог каждому, не многие стояли против Никиты Кузнецова, доведись сойтись на кулачных боях близ самарского кабака, у волжского берега.
— Шевельнулись! Шевельнулись-таки, раздери его раки! — Никита сквозь слезы от боли засмеялся, чувствуя, как медленно, будто весенняя первая капель через толщу промерзшего снега, сквозь ткань мышц начала пробиваться животворящая кровь. — Слава тебе, Боже, отошла от смерти моя рученька!
С усилием, но все же Никита трижды перекрестился и только тогда пристальнее оглядел палубу и всю тьму вокруг.
— А волны-то поутихли малость, — порадовался Никита, приметив, что теперь сюда, к рулю на корме, залетают лишь брызги волн, ударявших в борт, а сами они прокатываются под днищем изрядно осевшего струга, а не заливают его больше.
«В том и счастье мое! — возликовал душой Никита. — Не зря покойный родитель привиделся, из ямы меня вынул… Еще малость поштормило бы, струг вовсе залило бы водой. И не видеть бы мне больше ни милой Парани, ни деток Степушки да Малаши с Маремьянушкой… Знать, молились они за меня всю эту тяжкую ночь, и Господь услышал их молитвы… То всегда так было — друг по дружке, а Бог по всех», — приободрился Никита, но снова вспомнил погибших товарищей, загрустил: не рано ли возрадовался? Не дома еще, а среди моря! Куда занесло тебя, стрелец? В какую морскую глушь? В последние сутки во рту не было и маковой дольки, тело начало терять недюжинную силу, наливаться какой-то ленивой полусонной водой. А сколько тебе носиться по волнам? И чей берег увидишь однажды? Свой? Или землю басурманскую, попасть куда не больше радости, чем уйти в гости к водяному царю!
Думал так, потому что доводилось Никите встречать в Астрахани да и в родимой Самаре тоже выходцев из персидской неволи, слушать их рассказы о страданиях и мытарствах в гиблых невольничьих работах. Воистину, тамошнее житье для христиан стократ хуже рабского, особенно тем, кто попадал на галеры к веслам…
Никита поднял голову, пытаясь по направлению движения туч определить, в какую сторону несет ветром одинокий и беспомощный струг с таким же беспомощным его хозяином. Но не видно ни звезд, ни луны.
— Утром по восходу солнца узнаю, — негромко проговорил Никита, словно опасаясь голосом привлечь внимание морского владыки. Вздохнул — в пустом чреве заурчало, под стать плотоядному рычанию голодного волка при виде отбившейся от стада роковой овцы.
«Скоромничают бары да собаки, — горько усмехнулся Никита, спиной облокотившись о твердый и неудобный от этого руль. — И я с ними по великой нужде и бескормице», — и стал вспоминать, где могли быть припасы на струге, кроме тех, которые они уже поели за двое суток мытарства вчетвером. И припомнил, что пятидесятник Аника Хомуцкий, тоже из самарян, старшой в их карауле на учуге Уварове, кажись, не так давно повелел кормчему обновить припас воды и сухарей в его личной кладовой, что на корме, рядом с каютами для начальствующих лиц.
«Мы подъели припас команды, а командирскую кладовую не вскрывали, — обрадовался Никита, дернулся было туда, но потом хватило-таки разума и воли сдержаться, не пуститься по зыбкой мокрой палубе в розыск припасов. — Коль освобожусь от каната, а ну как вихрь сызнова налетит? Долго терпел, потерплю до света. Даст Бог, гроза кончится вовсе», — и поежился: вместо соленых брызг на него вдруг стали падать крупные капли — дождь! Подставив лицо и открыв рот, Никита долго полулежал так, откинувшись, пытаясь утолить жажду немногими каплями, которые реже попадали в рот, но больше секли лицо, смывая едкую соль с опавших щек, с продолговатого лица, полоскали, словно бабы коноплю на реке, скрученные волосы на голове, усы и короткую мягкую бороду.
Никита несколько раз выпрямлялся, с блаженством проводил ладонями по лицу, сгребая капли воды сверху вниз, как мусульманин при сотворении вечернего намаза,[5] снова откидывался и раскрывал широко рот. Когда занемели руки и спина, Никита сел ровно, спиной к рулю, осмотрелся еще раз — тьма вокруг, только слышно, как плещутся волны о борт, как хлопают оборванными концами парус и снасти, обвисшие вокруг мачты, да изредка грохочет упавший на палубу гафель, перекатываясь между фальшбортом и мачтой.
Над морем полыхнула редкая теперь, с началом дождя, молния, ослепила Никиту, и он зажмурился в ожидании грома, а перед внутренним взором всплыло иное видение, страшное и разорительное, которое довелось видеть и пережить совсем, казалось, недавно. И не где-нибудь в чужой земле, а в Самаре, в канун последнего для Никиты, похоже теперь, астраханского похода на службе…
По старинному обычаю Никита Кузнецов постарался закончить постройку нового дома к Семину дню[6] — до этого они теснились с ребятишками у родителей Парани. Пока был один Степушка, кое-как обходились, приговаривая, что в тесноте живут, да не в обиде друг на друга. Но с годами появились первая за Степушкой сестрица, потом намекнула о скором своем появлении на свет божий и вторая, Маремьянка. Тогда и порешил Никита ударить челом своим друзьям-сослуживцам и просить их сообща за лето отстроить новую избу. Гуртом, как говорится, и батьку бить можно, а нескольким десяткам крепких и умелых рук срубить дом да дворовые постройки — дело не трудное, были бы бревна да по воскресным дням штоф водки к общему артельному столу. К обеду Семина дня старая теща, выпроводив Никиту и Параню с детишками в новый дом, протопила печь в своей избе, весь жар выгребла из печи в печурку и дождалась полдня. Затем она сгребла в горшок горячие угли, накрыла его новой скатертью, после чего раскрыла дверь и обратилась к заднему куту[7] с ласковыми словами: