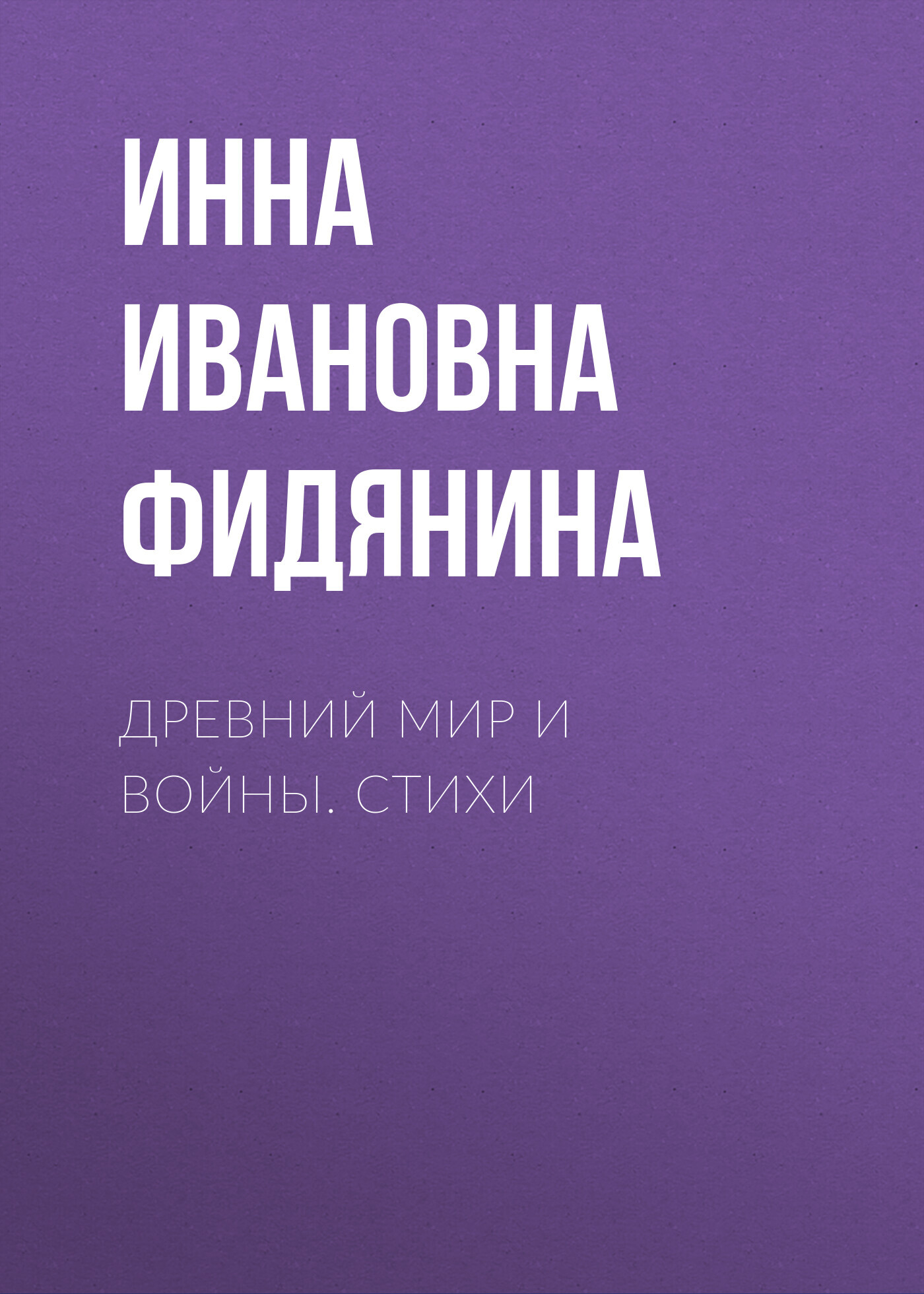не спорит, —
отвечает сынок деловито.
Бычий лопнул пузырь: открыто
окно, и ставенька хлопает.
Мальчонка встаёт да топает,
входную дверь открывает,
в хату мороз впускает.
Сестрёнка терпит, не плачет,
(она взрослая, батрачит).
Прикрыл оконце, стало теплее.
Придёт весна, повеселеет
крестьянская доля несчастная.
Баба спит безучастная
к их общему горю.
Привычка — дело дурное!
Царь казак, царица казачка
Небеса обетованные, повесть дивная:
деревянный дом, земля не глинная,
соха, метла и уздечка,
корова, свинья да речка.
Кобыла совесть забыла — пляшет,
петух крылами с забора машет,
кошка пошла до кота,
сижу на завалинке я.
Солнце играет.
Жинка не знает
какой я ей приготовил подарок:
там за сараем
стоймя стоит трон резной.
— Не садись, жена, не, постой!
Одень нарядное платье
да ленту атласную
вплети в золотую косу`,
теперь садись. Пусть не скосит
нас бог запорожский!
Ты царица, я царь литовский!
— Ну и дурак же ты у меня, Кондратий!
Зря время потратил, —
вздохнула Оксана,
но исполнила, что муж сказал ей.
Совершив обряд,
я был рад:
— Ну вот, теперь мы под защитой великой!
Бог с неба безликий
смотрел, не глядя:
«Ну и дурак ты, Кондратий!»
Небеса обетованные, повесть дивная:
деревянный дом, земля не глинная,
небо, рай и поля плодородные.
Гуляй, казак с царской мордою!
Монах влюбился
От добра добра не ищут.
— Ты куда? «Где ветер свищет,
и ломает паруса
лишь вода, вода, вода!»
— Не туда тебе, рыбак,
хлипковата лодка так.
— Я плыву, ты не мешай,
корабеле ходу дай! —
так монах сам с собой разговаривал
и от брега родного отчаливал:
не за рыбой он в путь пустился,
к нему в голову чёрт просился.
— Видно что-то не так, —
начал думать монах.
А захотелось служке божьему счастья:
влюбился он, вот несчастье.
И другого пути не нашёл,
как в лодочку прыг и пошёл,
погрёб, трусливо сбегая:
— Нельзя мне!
— Не понимаю!
От добра добра не ищут.
Но ветра во поле свищут,
и ломает паруса
лишь сама свята душа.
Царь и кобзарь
Не забудем, не забудем,
не забудем, не простим!
В нашем городе гуляет
самый главный господин —
это царь-государь.
А ты, нищий кобзарь,
не стой, уходи,
у тебя на пути
одни беды да тюрьма.
Плюнь, коль я не права!
Гой еси, гой еси,
перевелись на Руси
все законные дела.
Плюй не плюй, а я права.
Не забудем, не забудем,
не забудем, не простим:
в нашем городе прижился
самый главный господин —
это царь горох,
царь горох-чертополох!
А ты, кобзарь,
хочешь сядь, а хочешь вдарь
по своей больной судьбе,
у тебя дыра везде.
Эх, кобзарь-кобзарёк,
тебя царь уволок
в самый дальний уголок,
посадил под замок.
И теперь ты посиди,
пока пляшут короли,
пока пир идёт горой,
хочешь ляг, а хочешь стой
под дыбой, дыбой,
под двумя, а не одной!
А певцу герою
плохо под дыбою:
и ни ойкнуть, ни вздохнуть.
Как же дальше своё гнуть?
Не забудем, не забудем,
не забудем, не простим!
Как мы пели, так петь будем.
Беды в песни воплотим!
А храмы залижут свои раны
Храмы, храмы, храмы,
храмы — золочёны купола.
Русь ходила голой, драной,
но на храмы медь несла!
Охраняем храмы, храмы,
храмы — белая стена.
Зализав военны раны,
возведёт храм голытьба!
Старый, древний спит князь-город,
дремлет мёртвый Киев-град.
Хуже нету той неволи —
церкви битые стоят!
Апанасу игумену
нету плоше той беды:
половецкие зверины
все иконочки сожгли!
Сел и плачет. «Деда, что ты?»
— Ничё, детонька, иди.
Дед ты, древний Апанасий,
муку внуку расскажи!
Хата цела, бабка ждёт,
муженёк всё не идёт.
Целил, метил старый дед,
руки-крюки: «Нож нейдёт!»
Ты не плачь, не рыдай,
лежи на печке, дни считай.
Придут хлопцы, засучив рукава
и иконы, образа
вырежут, раскрасят,
развесят — храм украсят!
Заблестит церква, засияет,
мало ей будет, добавят:
на позолоту скинутся
и дальше двинутся
Русь отстраивать!
Не надо жинку расстраивать,
дед Панас,
война не про нас,
про нас пир горой!
Иди в огородик свой,
там репа сиднем сидит,
на тебя страшенно глядит:
срывай да ешь,
пока рот свеж.
А храмы, храмы, храмы,
залижут свои раны,
и колокольный звон:
«Динь-дон, динь-дон, динь-дон!»
Молодой да старый дурак
Молодой дурак и старый дурак.
А на родной земле да всё не так:
на родной земле — не косари,
на родной земле — гниль, пустыри.
Молодому дураку, ой, не терпится
на печь залезть, с мамкой встретиться.
А у старого свербит,
душа горечью горит:
— Земля чё спит, не шевелится?
Аль не главный я? Где ж метелица,
где метелица, что поднимет бой,
а как поднимет бой, так пойдём со мной! —
орёт дедок, надрывается.
Но спит земля, не просыпается,
а ковыль степной жизнью мается,
и солнце на небушке светит:
«Идите оба домой, там приветят.»
Расскажи нам, старый вед
— То ли царь ты, то ли вед.
Сколько, сколько тебе лет?
И ни спрашивать ужо,
сам не помнишь? Хорошо.
— Ничего хорошего!
— Доколе войны нам терпеть?
— Жизнь без того сложная:
сложим год, сложим два,
не осталось ни шиша!
— Так какой, скажи, ты вед,
коль не знаешь сколько лет
осталось жить до мира?
— Мир. Такое было? —
призадумался наш дед. —
Жили в мире или нет,
сколько войн идёт в миру?
Старый стал я, не пойму.
Нет, не вижу сквозь века!
И печальные полка
собирались в бой, бой
через бабий вой, вой
уходили далеко —
в соседне поле. Глубоко
зарывались в землю-мать
(оборона) и не встать!
А кто не встал,
того поднял
старый, старый, старый вед.
— Похоронит или нет?
— Да куда ж он денется:
проживёт ещё сто лет, не изменится!
— Закидает всех землёй.
— Спи, дружинник, песню пой
о языческих богах, —
старый вед сидит в ушах
и считает нам года. —
Раз и два, и два, и два…
— Так сколько до мира осталось?
— Лишь бы Русь не сломалась,
а всё остальное неважно.
— Отмоем, грехи не сажа!
Чернокнижник
Чернокнижник, чернокнижник,
отворяя дверь веков,
он из книжек, он из книжек
время черпает своё.
Чёрный старец не стареет,
вечный пленник не сердит,
он в своих оковах книжных
уже тыщу лет сидит:
за листом листы листает,
шепчет в бороду слова.
Всё на свете старец знает,
но не скажет никогда,
что на небе зла немало,
на