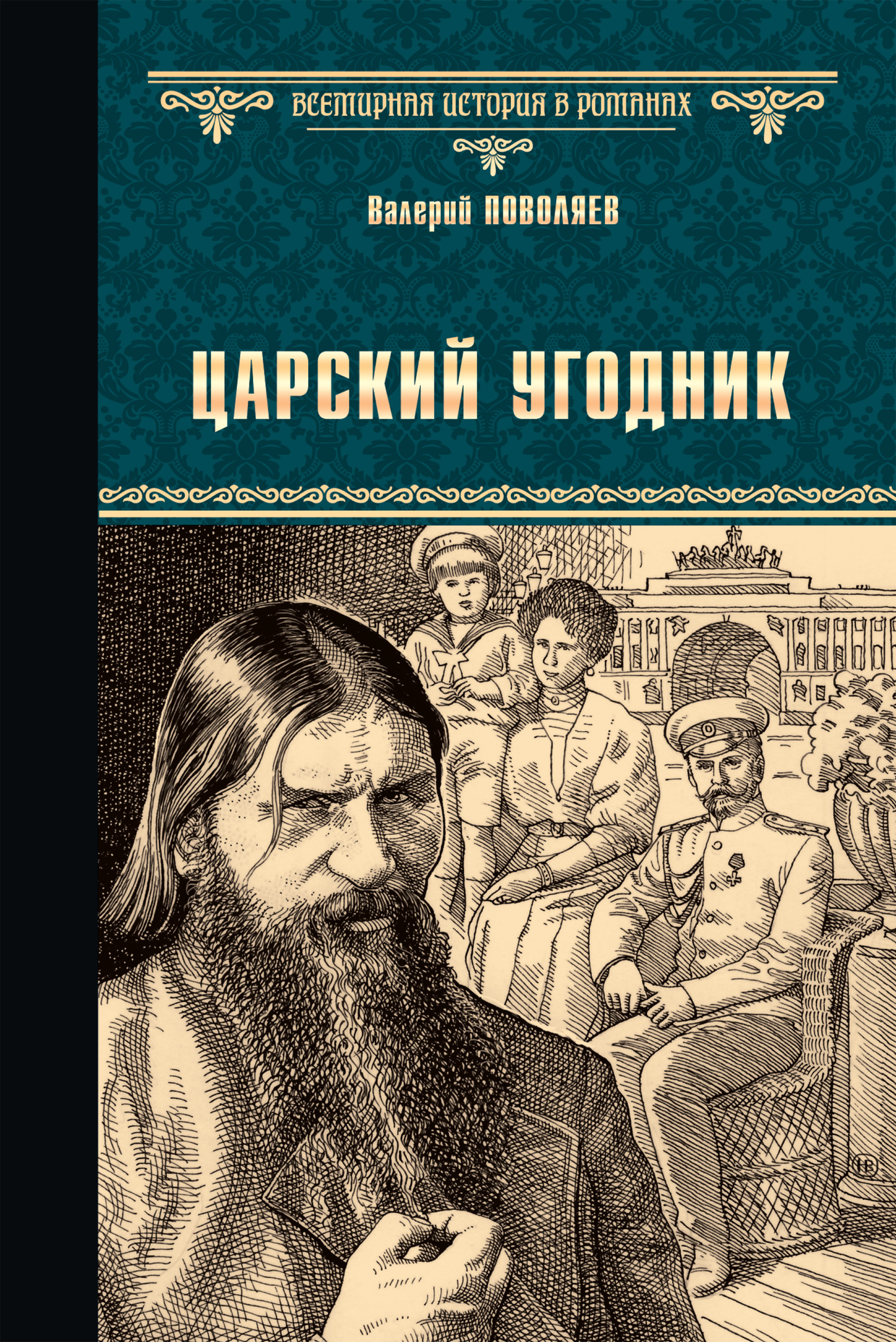больно опечатал сзади сапогом.
Путник охнул, загромыхал под откос, поднимая пыль всей своей костлявой фигурой, теряя сапоги вместе с тощим сидором <см. Комментарии, Стр. 9..вместе с тощим сидором>.
– И моли Бога, что я тебя на Сахалин не отправил! – громыхнул тяжелым, медным басом будочник.
Путник поднялся, стер со сбитой скулы кровь, сплюнул себе под босые ноги и произнес без особой обиды в голосе:
– Эх ты… Не знаешь еще, что жить тебе осталось две недели.
– Пошел вон! – еще раз громыхнул басом будочник. – Тоже мне, пророк нашелся!
Через две недели будочника, неосторожно сунувшегося в утреннем тумане на железнодорожные пути, чтобы понять, идет поезд или нет, сшиб и проволок целых две версты по полотну курьерский поезд, идущий из Москвы. Изуродовал он будочника страшно – у того оказались отрезанными обе руки и нога, тело было превращено в фарш, череп раскроен до мозга, лицо не узнаешь – оно было стесано до костей…
А путник двинулся дальше. Иногда он смешно подпрыгивал на раскаленных шпалах, дул вниз, себе на ноги, шипел, словно Змей Горыныч, ловил глазами солнце, помыкивал себе под нос песенку и, судя по всему, был доволен жизнью: дорога ему нравилась…
В другом месте с ним вообще чуть беда не стряслась. Дорога из кудрявого веселого леска выкатывала прямо на деревню – расхлябанную, состоящую сплошь из серых перекошенных домов с просевшими соломенными крышами, главным украшением которой была новенькая кирпичная водокачка с длинным ребристым шлангом, похожим на хобот слона, – здесь заправлялись водой паровозы. Путник, не останавливаясь, решил одолеть деревню махом, на одном дыхании, но не успел – не получилось…
Из крайнего, с разбитыми окошками дома, ловко перепрыгнув через плетень, к нему метнулся чернявый, словно грач, парень с длинным носом, скомандовал негромко:
– Стой, дядя!
Путник сделал вид, что не слышит оклика, продолжал скорым шагом двигаться дальше. Тогда парень скомандовал громче, со свинцом в голосе:
– Стой, кому говорят!
Делать было нечего, путник остановился. Развернулся лицом к парню. Тот подбежал. Губы трясутся, глаза белые, в уголках рта – слюна. Протянул руку к путнику:
– Давай сюда свою котомку!
– А я как же без нее? – Путник отступил от парня на шаг. – Мне без нее нельзя!
– Обойдешься! И сапоги давай! – Парень стрельнул глазами по сапогам, висящим у путника на плече. Увидев заплаты, недовольно поморщился: – Ладно, сапоги можешь оставить себе…
Путник отступил от парня еще на шаг.
– Нет!
– А это ты видел? – Парень приподнял рубаху. Штаны у него были подвязаны обычной пеньковой веревкой, из-за пояса торчала деревянная, с крупными медными клепками рукоять ножа. – Защекочу ведь!
Путник начал медленно снимать с себя котомку, перехваченную с сапогами одной бечевкой – в противовес: с одной стороны сидор, с другой – сапоги, глянул испытующе на парня. Парень протянул к сидору руку:
– Ну!
Тут путник неожиданно изогнулся и что было силы лягнул парня ногой в живот, потом отскочил назад, примерился, совершил проворный прыжок и снова лягнул налетчика. Второй пинок был болезненным – путник ударил метко, угодил парню прямо под грудную клетку, в самый разъем, туда, где расположено солнечное сплетение. Парень охнул, схватился руками за живот и, сплевывая на землю что-то тягучее, окрашенное розовиной, согнулся.
Путник подскочил к нему, ударил кулаком, словно молотом, сверху по хлипкому, в редких немытых косицах волос затылку. Парень охнул еще раз, ткнулся головой в колени, покачнулся, но на ногах устоял.
– Вот тебе, вот! – злорадно вскричал путник, снова ударил налетчика кулаком по затылку, он был сильнее, жилистее, выносливее белоглазого парня. – Вот… вот!
Оглянулся – не бежит ли кто с колом в руках на подмогу к неудачливому налетчику? Деревенская улица была пуста, безжизненна, лишь куры копошились в пыли около плетней – больше никого. Путник еще два раза ударил парня, но тот так и не свалился на землю, все стоял и стоял на ногах, чем вызвал невольное восхищение путника, знавшего толк в деревенской драке.
– Ну и крепок же, зар-раза! – воскликнул путник, подхватил котомку с сапогами одной рукой и рысью понесся по деревенской улице, провожаемый ленивым тявканьем почти спекшихся в летнем зное дворняг да кудахтаньем потревоженных кур.
Перешел на шаг он минут через десять, когда деревня осталась далеко позади.
Через час он решил сделать привал. Остановился и долго сидел в тени куста, слушая песню соловья. Тот пел изобретательно, громко, без перерыва, так сладко пел, что душа у путника была готова выскочить наружу.
Он восхищенно покачал головой и, не сдержавшись, прошептал:
– Мерзавец! Вот мерзавец, а!
Соловей облюбовал себе место в душной зеленой низинке, в густом сочном кусте, вокруг которого, несмотря на жару, поблескивала вода; от воды той тянуло травяной прелью, клюквенной кислятиной, чем-то застойным, острым, и человек восхитился еще раз – сметлива была птица: кругом вода, к гнезду никак не подобраться, ни кошка, ни белка сырину не одолеют, увязнут в топи, да и не только они, всякий зверек увязнет и повернет обратно, если только его не засосет болотная прорва; до гнезда, правда, может дотянуться жадная хищная птица, какая-нибудь дура ворона с широко раззявленной пастью, но и ей вряд ли удастся поживиться… Соловей прилепил свое гнездо к гибкой длинной ветке, на которой никакая ворона не удержится, – жирное тело непременно соскользнет вниз, а ветха выпрямится, да и сквозь густоту листьев вороне будет очень трудно пробраться…
– Во молодец птаха! – восхитился путник. – Не гляди, что мозгов мало и голова всего с наперсток – вон все как дельно продумала!
Он решил задержаться в полюбившемся ему месте, в ржавой лужице ополоснул ноги, потом руки и лицо – человек этот особой брезгливостью не отличался, – достал из котомки, которой чуть было не лишился, два черных жестких сухаря, бутылку из-под «Смирновской» водки, заткнутую кукурузной кочерыжкой, – в бутылку была налита колодезная вода, пить из луж путник опасался, боясь подцепить какую-нибудь гадость, – и приступил к трапезе.
Зубы у него были слабые, а сухари – прочные, как железо, только зубилом их и брать, поэтому путник здорово с ними мучился, но есть-то надо было, поэтому он поступал с сухарями изобретательно: отпивал из бутылки немного воды, задерживал ее во рту, потом совал в рот сухарь, ждал, когда тот немного размокнет, и лишь потом отгрызал от него кусочек, перетирал зубами и гулко проглатывал.
Лицо у путника при этом было напряженным, словно он выполнял тяжелую работу, по щекам тек пот.
А соловей не унимался, продолжал петь, яриться, вызывал слезы умиления. Путник потрясенно вытягивал голову, замирал, тихо пришептывал, словно пытался подсобить птице или угадать следующее песенное коленце, оставляющее в душе чувство восторга, сладкое щемление, что-то очень радостное, затем немо мычал, словно ребенок, – он был готов слушать соловья до самого вечера.
Но соловей умолк через полчаса, и путник