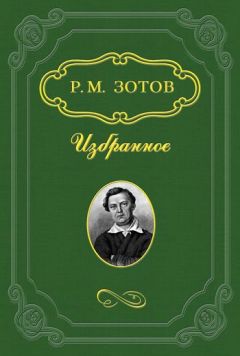– Скажи мне, сын мой, как все это случилось? – кротким голосом спросил Эрбах.
Гриша рассказал все подробности своего знакомства первой встречи с Марией и прибавил:
– Ты знаешь, мой отец, как она несчастлива в своем замужестве: Корчмин предался пьянству и распутству. Почти каждый день он возвращается домой пьяный и тогда, как он с нею обращается! Не знаю, как я выдерживал, когда он, в моем присутствии, осыпал ее не раз площадными ругательствами и даже побоями!
– Но что же ты можешь сделать, видя её страдания?
– Я люблю!
– Чего же ты надеешься?
– Я люблю! И не могу поручиться за себя ни на одну минуту, – с жаром сказал Гриша.
– А если муж, узнав об всем, умертвит в твоих глазах преступную жену?
Гриша побледнел и замолчал.
– Что тогда спрашиваю я? Не захочешь ли ты к одному преступлению прибавить другое?
– Ужасно! ужасно! Замолчи ради Бога, я не в силах слушать такие речи! – вскричал Гриша, охватив горевшую свою голову обеими руками.
– Перенеси лучше теперь мучение, когда преступление еще не совершилось, а после будет уже поздно.
– Спаси меня, отец мой, или лучше убей меня! Иначе я, повторяю, не ручаюсь за себя. Пусть судьба исполнится.
– О! прости его, Боже! Глас безумного да не достигнет до Тебя! Сын мой, милый мой Григорий! Одна минута рассудка, одно мгновение веры и упования на Промысел Божий и ты спасен. Обратись, сын мой к Богу.
Долго говорил еще старец свои назидания и, видя, что Гриша несколько успокоился, перекрестил его и вышел в другую комнату. Помолившись усердно Богу, Гриша снял верхнее платье, бросился на диван и закрыл глаза. В тяжких думах он не мог уснуть до самого рассвета, Наконец, сила утомленной природы одержала верх и он уснул.
На утро в его комнату вошел Корчмин и громким голосом сказал:
– Как тебе не стыдно спать до сей поры! Пора на службу, Григорий Иванович!
Гриша вскочил с дивана и долго не давал себе отчета, где он находится.
– За то люблю, что спит и просыпается по военному. Совсем одет. Кликни – вскочит. Молодец, брат Григорий Иванович! А что нет ли у тебя настоечки!
– Помилуй! Теперь, спозаранку! Разве можно натощак пить настойку? – возразил Гриша.
– Можно и должно, друг милый, и по утру, и ввечеру, и натощак и на сытый желудок. Это жизненный эликсир, против которого все ваши чаи и кофеи ничего не стоят. Вели-ка подать!
– Нет, братец, у меня! Я и сам не пью и тебе не советую.
– Что ж ты, головы моей ищешь! Хорош приятель! Хочешь уморить меня ни за что, ни про что!
Вскоре они вышли и направились к Кремлю. По дороге Корчмин зашел в кабак и выпил приличную порцию романеи. Одушевленный этим приемом быстро пошел он на работы, постоянно кричал на рабочих и снабжал их пинками и подзатыльниками. Когда пробило на Спасских часах двенадцать Корчмин отправился домой, потащив за собою и Гришу, который сначала отговаривался, но потом согласился, давши себе слово, что это в последний раз.
И на этот раз поведение Корчмина с женою было возмутительно. Осыпал ее ругательствами и толчками, хотя и не от сердца, но чувствительными. За обедом ж Корчмин пил по обыкновению до пьяна и в конце концов свалился на диван в бесчувственном состоянии. Гриша взглянул на Марию и взоры их встретились. Как много значил этот взгляд! Какой ужасный смысл в нем таился! Долго они менялись этими взглядами столь понятными лишь для существ взаимно любящих. Наконец, Мария прервала молчание, сказав:
– Отчего ты, Григорий Иванович, нынче так печален!
Гриша вздохнул и не отвечал ни слова.
– Если бы ты был веселее, то муж мой не привязался бы ко мне и не заставил бы меня мириться с тобою поцелуем, – сказала Мария не поднимая глаз.
– Неужели тебе жаль и тех принужденных поцелуев, которые судьба послала мне! – возразил мрачным голосом Гриша, откидываясь на спинку стула.
– А тебе разве не жаль было меня! Ах, что я вытерпела!
Гриша снова погрузился в мрачную задумчивость и снова воцарилось молчание.
– Ты опять печален, Григорий? Что с тобою? – спросила Мария.
Вместо ответа Григорий покачал головою и бросил на Марию дикий вопрошающий взгляд.
– Какой ты странный, какой ужасный человек. Ты пришел нарушить мое спокойствие на всю жизнь. Ты разбудил чувства, уснувшие в продолжение стольких лет. Ты вовлек меня в стыд и грех пред Богом и самою собою и, когда я, с полною и беспредельною любовью вверилась тебе, ты остаешься еще недоволен: горюешь, тоскуешь и мои ласки не утешают тебя! Бог с тобою, Григорий! Ты не добрый человек!
Гриша молчал. Грудь его высоко вздымалась, а на глазах навернулись слезы.
– Бог с тобою, Григорий! – тихо повторила Мария. – Ты: не хочешь даже мне сказать, что тебя так печалит.
– Все то же и вечно то же! – сказал Гриша прерывистым голосом.
– Григорий! Григорий! Чего ты от меня требуешь? Если ты любишь меня, то будь доволен моею чистою сестринскою любовью.
– Хорошо же ты, Мария, понимаешь любовь.
– Нет, ты не любишь меня Григорий!
– Ты права! Я не люблю, потому что люблю не по твоему. Бог с тобою, будь счастлива, а я и один сумею умереть! – с отчаяньем произнес Гриша.
– Это уже слишком! – сказала Мария всхлипывая от слез и бросилась в соседнюю комнату.
Страсть во всей своей силе, забушевала в груди Гриши. С минуту он был в нерешимости, но потом бледный, изступленный бросился за Марией.
Домой возвратился Гриша около полуночи и застал Эрбаха сидевшим за столом, на котором стояла нагоревшая сальная свеча. Старец забросал его вопросами где он был, почему так поздно вернулся домой, но Гриша выдумал какие-то отговорки и скрыл от Эрбаха настоящую причину своего позднего возвращения.
На другой день Корчмин снова зашел за Гришей и снова затащил его к себе обедать. Так повторялось каждый день, но Гриша возвращался домой в свое время.
В первых числах декабря государь приехал в Москву. Осмотрев работы Корчмина, он остался ими доволен, пригласил как его, так и Гришу к себе на обед. Явившись во дворец они нашли там Эрбаха и Глюка. Пред самым обедом из внутренних покоев вышла Екатерина, бывшая питомица Глюка. Навстречу ей поспешил Петр Алексеевич, взял ее за руку и подведя в Глюку сказал:
– Рекомендую вам, добрый мой пастор мою жену, императрицу Екатерину.
Обед прошел оживленно. Государь спрашивал Корчмина о здоровья его супруги, на что тот отвечал, что она стала было поправляться, а теперь снова недомогает и худеет. Гриша сидел как на раскаленных угольях, особенно когда Меньшиков стал подтрунивать над ним, намекая на любовь его к Марии Трубецкой. Он чувствовал, что ласковость Меньшикова слишком далека от той дружбы, какая была между ними в прежние времена. Впрочем, он имел довольно рассудительности, что бы не винить царского любимца за его перемену: Гриша только просил его, чтобы он исходатайствовал прощение его отцу, как равно и о том, чтобы он сам был отправлен в армию. Меньшиков удивился последнему желанию Гриши, но тем не менее обещал ему свое содействие во всем.
Обед кончился и Корчмин опять потащил к себе Гришу допивать порцию, которою он не посмел воспользоваться за царским столом.
Царь Петр Алексеевич разорвал союз с Польским королем Августом, должен был один воевать с Карлом XII, наводившим ужас на всю Европу своими победами. Сколько ни уверен был Петр в преданности своего народа и храбрости своего войска, наконец в правоте своего деда, но тем не менее он взыскивал средства, чтобы отклонить бурю, грозившую разразиться над Россиею. Два раза предлагал мир Карлу, но тот с надменною дерзостью отвечал, что в Москве он поговорить об этом. Оставалось покориться необходимости и вверясь Провидению готовиться к решительной борьбе. Все меры к защите отечества были исчерпаны.
Малороссийские казаки, управляемые гетманом Мазепою, не смотря на свою многочисленность, нигде не имели значительного влияния на действия войны. Не имея надлежащей дисциплины и военной регулярной подготовки, они были бессильны против Шведов. Но тем не менее Мазепа, живя в своей столице городе Батурине, деятельно занимался воинственными приготовлениями. Он был мрачен и печален: какая то забота глубже и глубже врезывалась в морщины его лица и никто из приближенных не смел его спрашивать о причине, так как он давно уже стал недоступным.
Однажды поздним вечером, когда уже весь город спал, одно окно дома, в котором жил гетман было освещено. Мазепе нетерпеливо ходил по комнате и по временам поглядывал на дверь, как бы ожидая кого то. Действительно, скоро послышался легкий стук в дверь и по слову Мазепы: войди! в комнату вошел старик, с виду гораздо старше Мазепы. Но этот внешний старческий вид был обманчив. Всматриваясь внимательно в лицо этого старца, изборожденное глубокими морщинами, можно было заметить в нем признаки жизненности и сильных душевных способностей. Дикий огонь в глазах, быстрые телодвижения и твердый, звучный голос изобличали в нем еще не угасшую телесную силу.