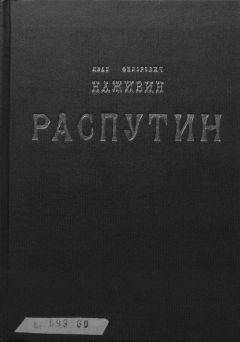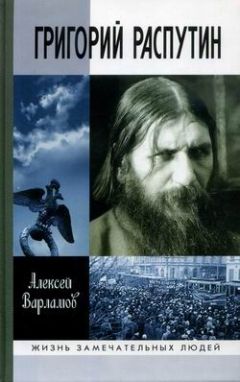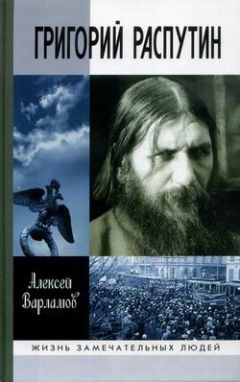— Не понимаю, как можно выражаться так вульгарно о… — приосанился было Ваня с достоинством.
— Тьфу, черт, опять не так! Да ведь не о биномонолизме говорю я, так какого же черта профессорский вид тут на себя напускать?
— А какие перлы скрыты иногда в глубинах народных! — тихонько воскликнул Ваня. — Это совсем не то, что весь этот наш позолоченный, но гнилой внутри вздор!
— Вот тебе и здравствуйте! — поразился студент. — Да ведь и двух недель не прошло, как ты с Милочкой Войткевич по бульвару разгуливал, а теперь — гнилой вздор?
— Я говорю вообще. Да, гнилой вздор…
— Ну я вам доложу… — протянул Володя, выразительно засвистав. — И неужели все это так в Карле Марксе и прописано?
Из раскрытых окон второго этажа полился вдруг мечтательный нежный вальс. Голоса за столом стихли: все слушали.
— Вот вам мой добрый совет, профессор, — вдруг решительно сказал Володя. — Наплюй ты на свой этот буономиндализм и — жизнью пользуйся, живущий!{60}
И подпевая своим приятным тенорком вальсу, он унесся в дом. Ваня, как бы читая, прошелся раз, другой по садику, а потом снова подошел к окну.
— Феня, милая… эта ваша тайна ужасно мучит меня… В чем дело? — проговорил он. — Почему вы с таким упорством отказываетесь от… Постойте: может быть, вы любите… другого?
— Нет, нет, нет… — тихонько воскликнула Феня. — Никого никогда не любила я… кроме вас… Но… вы не знаете беды моей…
И она вдруг тихонько и жалобно заплакала.
На лестнице снова послышался шум, и Ваня торопливо отошел со своим «Вестником Европы» к столику. На крылечко вышли Иван Николаевич с Галактионом Сергеевичем.
— Ну куда вы так, голубчик, торопитесь? — говорил Иван Николаевич. — Экий вы какой, право! Посидели бы, поговорили… А?
— Всей душой был бы рад, Иван Николаевич, но никак нельзя: Серафима Васильевна ожидает… — отвечал гость. — Мы решили вместе отстоять всенощную. Да вы вот приходите завтра к вечерку с Марьей Ивановной к нам. И молодежь захватите… Попьем чайку, побеседуем… Идет?
— Идет… — отвечал Иван Николаевич. — Ну так постойте, я хоть провожу вас… Глаша, а Глаша! — позвал он в окно.
— Вы что, барин? — с вышитым полотенцем на плече и полоскательницей в руках, появляясь у окна, отозвалась Глаша, горничная, очень рассудительная девица лет за тридцать пять.
— Дай-ка, мне, милая, шляпу — не новую, а ту, постарше, панаму да костыль мой… — сказал Иван Николаевич. — Хочу вот Галактиона Сергеевича проводить…
— Сичас, барин…
— Так-то вот, батюшка Галактион Сергеевич… — проговорил Иван Николаевич. — Вечер-то какой! В рай не надо…
— Хорошее время стоит…
— И время хорошее, и люди хорошие на свете есть — жить можно, хе-хе-хе… — задребезжал тихонько старческим смехом Иван Николаевич. — Вон говорят: старость не радость… Чепуха! Я вот прямо скажу вам: живу и не нарадуюсь. Жизнь проработал для родины, кажется, по совести, государь не забыл меня, наградил как мог, кусок хлеба на старость есть, ребята на свои ноги уже потихоньку становятся. Все слава Богу, за все благодарение Господу…
— Конечно, у нас тут жизнь тихая, хорошая… — сказал немножко грустно Галактион Сергеевич. — Если бы вот только поосторожнее раньше быть. А то жили широко, вовсю, вот оно и сказывается. Едва ли удержу я теперь мое Подвязье, придется продавать. А жалко: родовое гнездо ведь… А красота-то какая… Парк один чего стоит! Вот немножко и грустно…
— Ну авось Господь не без милости… — сказал Иван Николаевич, принимая от Глаши шляпу и палку. — Спасибо. Э-э нет, пальто не надо, не возьму… Теплынь какая…
— Как это так — не возьму? — назидательно и строго проговорила Глаша. — А заговоритесь где да простынете, что скажет мне тогда Марья Ивановна? Нет, нет, без пальта никак нельзя! Пока на руку возьмите, а сядет солнышко, наденете…
— Ну что ты тут будешь делать? — развел старик руками. — Ну, давай и пальто… Идемте, Галактион Сергеевич… Я скоро, Глаша…
Старики вышли в калиточку, а Глаша деловито скрылась в доме. Из окон все лился вальс, тихий и мечтательный… Ваня только было вышел из-за кустов, как на крылечке показалась Марья Ивановна в стареньком пальтеце, с зонтиком и ридикюльчиком в руках.
— А ты что тут один делаешь? — ласково спросила она сына. — Ты на Володю не обижайся: он хоть и озорник, да душа-то у него золотая…
— Что вы, мамочка? Мне и в голову не приходило… — сказал сын. — Я просто… читаю…
— Ну, невидаль какая! Всего все равно не перечитаешь… — сказала мать. — Пойдем-ка вот лучше со мной ко всенощной. Перед экзаменами-то помолиться не мешает… Бог и поможет… А?
— Я лучше завтра к обедне пойду…
— Ну Бог с тобой, как хочешь… — отвечала она и набожно перекрестилась: над тихим и розовым в лучах вечерних городком вдруг важно и торжественно и чисто пронесся первый удар колокола. — Таня, Таня! — позвала она в окно.
— Вы что, Марья Ивановна? — появился у окна Володя.
— Скажи Тане, чтобы кончала музыку: благовестят…
— Ну, Марья Ивановна… — заныл Володя. — Мы немножко…
— Сказано — нельзя, и нельзя… — строго сказала старушка. — Что ты, басурман, что ли, какой? Люди в храм Божий, а ты будешь тра-ля-ля разводить? Всему свое время. Вот завтра отойдет поздняя, так хоть весь день забавляйтесь, никто слова не скажет…
— Правильно, Марья Ивановна! Целую ваши ручки… — сказал Володя. — Порядок прежде всего… Таня! — строго крикнул он в комнату. — Мамаша приказывает шабашить: благовестят!
— Экий озорник!.. — повторила, качая головой, Марья Ивановна. — Глаша, а Глаша…
— Что вы, барыня? — появилась за Володей горничная.
— Лампадочки-то зажгла?
— Зажигаю, барыня…
— Ты смотри, поглядывай за ними: не ровен час, занавески и загорятся. Нынче масло-то какое…
— Слушаю, барыня…
— Ну, я пошла…
— С Богом, барыня… За нас помолитесь…
Над розовым тихим городком плавал задумчивый и торжественный вечерний звон — и у Прасковеи Мученицы звонили, и в Княжом монастыре, и у Николы Мокрого, и у Спаса-на-Сече, и в селе Отрадном за рекой. Феня, убрав свое шитье, скрылась куда-то. Ваня сел подальше в сирень на старенькую скамеечку. Из дома вышли Таня с Володей.
— О, позволь, ангел мой, на тебя наглядеться… — запел тихонько Володя.
— Нельзя! — загораживая ему рот рукой, строго сказала девушка. — Басурман!
— Не буду, умница! — целуя ее руку, отвечал студент. — А еманципе всех к черту!
И тихонько прошли они садом к заборчику, и постояли там, любуясь вечереющим небом, далями, рекой, и тихонько скрылись за домом. Дверь на крылечке тихонько приотворилась, и из нее пугливо выглянула Феня. Ваня порывисто поднялся ей навстречу.
— Ах! — тихонько уронила девушка и закрыла лицо руками.
— Феня, родная, да что же это с вами? — взмолился Ваня. — Ради Бога… Если бы вы знали, как это мучит меня… Пойдемте, я провожу вас, и вы расскажете мне все… Хорошо?
— Нет, нет, никак невозможно! — тихо с отчаянием отвечала Феня. — Больше недели я… была так счастлива… около вас… А теперь, видно, конец… Я — просватана, милый… И ежели вотчим узнает, убьет он меня… Оставьте меня и… прощайте… простите…
И бросив на опешившего Ваню испуганный взгляд, она торопливо пошла к калиточке.
— Подождите, Феня! — вдруг устремился за ней Ваня. — Это — вздор! Мы все повернем по-своему… Я иду с вами…
— Нет, нет, милый… — борясь со слезами, решительно отвечала вся бледная Феня. — Никак нельзя. Если узнают, убьет меня вотчим… и вся семья без куска хлеба останется… Он в руках нас держит… Спасибо, милый… и простите… И — не мучьте меня… Такова уж судьба…
Она быстро исчезла за калиточкой. Ваня, ничего не видя, торопливо ушел опять в кусты. Из-за старенького дома в сиянии вечера вышли снова рука об руку Таня с Володей. И забывшись, Таня тихонько запела:
— Поутру, на заре,
По росистой траве
Я пойду свое счастье искать…
— Петь нельзя! — строго остановил ее Володя. — Басурманка! Еманципе!
Она счастливо рассмеялась… И взявшись за руки, они восторженно смотрели друг на друга, а над ними, над всею сияющей землей пел задумчиво и торжественно вечерний звон…
На окраине города, туда, к Ярилину Долу, где тянулись уже тучные огороды, в небольшом мещанском домике с кисейными занавесками и геранью на окнах, с вишневым садком вокруг и со скворешником на длинном сером шесте жила большая семья москвичей, которая состояла из Ивана Дмитриевича Колганова, или попросту Митрича, как звали его приятели, уже пожилого человека с худым телом и лицом и с водянистыми голубыми глазами, плохо остриженного, небрежно одетого; его жены Анны Павловны, когда-то красивой женщины, которая теперь от бесчисленных родов расплылась в бесформенную перину, и только темно ореховые, всегда гневные и прекрасные глаза напоминали теперь о ее былых очарованиях; и целого выводка детей, дурно одетых, дурно обутых, горластых и невоспитанных. Кончив университет по математическому факультету, Митрич сперва поступил было чиновником куда-то, но очень скоро он пришел к заключению, что он делает не бесспорно полезное дело, а толчет воду в ступе и, мало того, служит организованному насилию. Он бросил службу и пошел учителем в гимназию — он был прекрасный и широко образованный педагог, — но очень скоро убедился, что учить детей тому и так, как он хочет, там немыслимо, а учить по бездарной казенной указке он не желает, и вышел из гимназии. От своего отца, некрупного чиновника, достался ему в Москве в Сущеве небольшой домик с доходом тысячи на три в год. Скромно на эти деньги жить было бы можно, но Митрич был убежденнейший джорджист{61} и поэтому, не дожидаясь, когда все человечество примет благодетельную реформу единого уравнительного налога с ценности земли, single tax[19] — а что оно ее скоро примет, в этом для него не было и тени сомнения, — Митрич поставил себе за правило всю ренту с своего земельного участка тратить только на дела общественные, а не на себя. Это значительно урезывало его средства, а так как семья росла очень быстро, то, несмотря на всю ее оборванность, росли и расходы Митрича и нехватки в его бюджете. Чтобы пополнить эти нехватки, Митрич печатал от времени до времени превосходные переводы своего любимого экономиста Генри Джорджа или же обстоятельные статьи в журналах и брошюрах о том, что вот в Австралии уже введен частично единый налог, а в канадском парламенте один из депутатов произнес в защиту этой замечательной реформы прекрасную речь, что в Англии уже основалось Single tax review,[20] что, одним словом, мир все ближе и ближе подходит к порогу в светлое царство справедливости. Со всем тем Митрич считал себя великим грешником и чрезвычайно мучился своим обеспеченным положением…