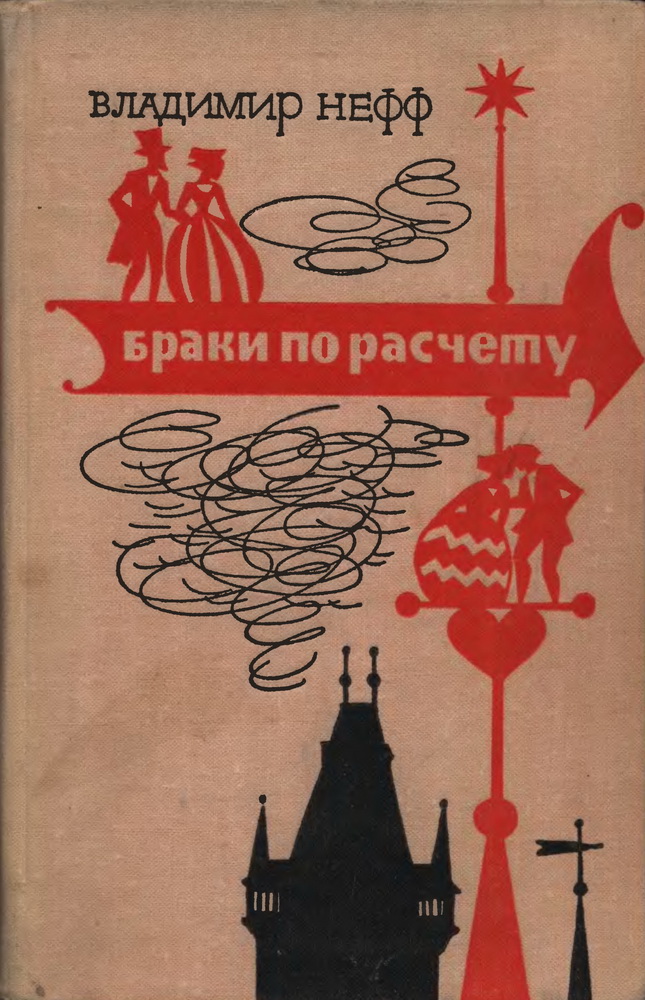щелканье кнутов да стук колес. Почтальоны в своих черных с оранжевой оторочкой куртках и желтых узких рейтузах, в высоких черных лакированных сапогах, в цилиндрах с позолоченным орлом и желтой лентой на удалых кудрявых головах издалека давали о себе знать, трубя в рожки, закрученные наподобие кренделя; дилижансы, экипажи, экспрессы потоком вливались в город, чтобы перепрячь лошадей и запастись провиантом в дальнейший путь. Это непрерывное, живое и живительное движение превращалось в суетливую неразбериху, когда подходило время паломничества на Святую гору или ярмарки в Пльзени. И летом и зимой вместительные неторопливые корабли тракта, извозные фургоны, катились к Праге и из Праги, везя железо и пиво, уголь и дрова, кожи, сукна и овес, сахар и масло — одним словом, все то невероятное разнообразие сырья и изделий, необходимых людям уже тогда, в те времена, которые в воображении наших механизированных и моторизированных детей сливаются чуть ли не с веком каменных замков и рыцарей в латах.
Лошади, тяжелые мохноногие битюги с необъятными крупами, старались поспевать за фабричными машинами, за поршнями и маховиками, приводимыми в движение паром — этой, на первый взгляд, маломощной силой, едва способной приподнять крышку кастрюльки; конный транспорт переживал бурный расцвет. Однако было ясно как день, что столь безнадежное состязание мышечной силы животных со стальными рычагами и колесами не могло длиться долго; чем бешенее становился темп, тем ближе был конец.
Добрая, толстая плешивая голова старого Недобыла варила неплохо, и он предвидел, что песенка его фургона будет спета, как только построят железную дорогу от Праги через Рокицаны в Пльзень, а это рано или поздно, но обязательно случится, — и подобные мысли доставляли ему немало горьких минут. Кто видел, как он, железной рукой управляя четверкой лошадей, важный, с красивыми белыми усами в форме голубиных крыльев, украшавших его полное широкое лицо, обожженное солнцем и исхлестанное ветром, достойно восседает на козлах в длинном плаще с двумя рядами желтых пуговиц и с кожаным, шириною в пядь, поясом, стягивающим его здоровый выпуклый живот, — тот не мог не подумать: вот человек, довольный жизнью и самим собой, удачливый в своих предприятиях. А между тем Недобыл, на вид столь невозмутимый, был человеком слишком беспокойным. Яркие сны о том, как его фургон, заброшенный и ненужный, ветшает в сарае, заставляли старика просыпаться по ночам.
Тревожили Леопольда Недобыла и деньги, скопленные за тридцать лет. В семье до сих пор ходило предание о несчастье, постигшем в начале века дядю Иоахима, отцова брата: крестьянин среднего достатка, владелец тучных полей за рокицанскими городскими стенами, Иоахим сказочно разбогател чуть ли не за одну ночь, когда стены снесли и строительная лихорадка, вызванная таким освобождением города, взвинтила цены на землю. Иоахим распродал свои поля в пять раз дороже их прежней стоимости, но радость его была недолгой: банкротство государственной казны в марте 1811 года съело всю его прибыль. И мысли о новом банкротстве, которое могло бы проглотить все, что Леопольд Недобыл сколотил за целую жизнь, внушало ему немалую тревогу, причем не без основания: секретом полишинеля было, что австрийские финансы находятся в жалком состоянии, казна пуста, бюджет пассивен, а долги огромны.
Третьим крупным источником беспокойств был старший Недобылов сын, Алойз, брат умного, одаренного, — как убеждены были родители, — Мартина; Алойз был здоровенный детина, способный поднять фургон за задок, и дома он пил только из оловянной кружки, потому что стаканы ломались в его огромной нечувствительной ладони, — но духовно совершенно неспособный постичь тонкости отцовского ремесла.
Дело в том, что Недобыл был не простой возчик, которому каждый мог кинуть в телегу мешок с горохом, — отвези, мол, туда-то и туда-то. Во время своих регулярных поездок в Прагу — он всегда выезжал в понедельник утром, а возвращался в пятницу к полудню, как часы, в мороз и зной, — старый Недобыл выполнял сложные коммерческие и почтовые поручения, и все это — без записей, без корреспонденции, без бухгалтерии, если не называть бухгалтерией те палочки, которые записывала на доске матушка Недобылова, чтоб иметь представление о количестве масла, доверенного рокицанскими хозяйками возчику для продажи в столице. Нелегальную же доставку писем и посылок, равно как и денег, Недобыл производил всегда, причем делал это надежно и дешево: если почтовая марка для письма стоила шесть крейцеров, то Недобыл добросовестно вручал адресату всякую мелкую посылку за половину этой суммы, да еще дожидался ответа или передавал устно то, что отправитель надумал, уже запечатав письмо. А если присовокупить к этому, что сверх упомянутого люди поручали Недобылу на комиссию всякую дребедень, от которой не могли избавиться сами, — как-то: разобранную кафельную печь или гипсовую статуэтку африканки, — и что он возил еще пассажиров, причем за два гульдена вместо четырех, взимаемых за место в дилижансе, то нам придется признать, что Недобыл — человек толковый, с головой на плечах. Но что проку в голове отца, когда сын его и преемник бестолков!
«Наш Лойзик не знает обращения», — горестно вздыхала матушка. Это было самое мягкое, что она могла сказать о нем, но даже и столь снисходительно выраженное мнение укрепляло озабоченность отца; в самом деле, что это за возчик, который «не знает обращения», не умеет потолковать с людьми, завлечь клиента приятным словом, пошутить с ним; который все путает, письма отвозит не по адресу, поручения передает шиворот-навыворот, ни о чем не может договориться и уходит не солоно хлебавши, даже денег правильно получить не умеет!
Работать-то Лойзик мог за четверых, горы готов был свернуть, для него переломить оглоблю о колено был сущий пустяк — зато в присутствии посторонних он терялся, начинал заикаться, делался неуклюжим, как лягушка, загипнотизированная змеей, — и потому казался еще глупее, чем был.
— Господи, что выйдет из этой орясины? — сокрушался Недобыл, глядя на широкое, красное, угрюмое лицо сына.
— Не всем же быть такими умниками, как Мартин, — возражал Лойзик.
Дело в том, что духовное превосходство Мартина, подтверждаемое замечательными успехами его в гимназии, круглый год ставилось в пример старшему брату, и не удивительно, что тот затаил злобу на младшего. Даже такому верзиле, как Лойзик, нужна любовь — а поскольку Мартин, по его мнению, захватил для одного себя всю любовь и матери и отца, то Лойзик ненавидел брата глухо и упорно.
Так же сильно ненавидел он отцовское ремесло, потому что не имел в нем удачи, а удачи он не мог иметь, потому что ненавидел это ремесло. Так бесплодно и безнадежно метался Лойзик в заколдованном кругу, а отец не обладал ни достаточно умелой рукой, чтобы