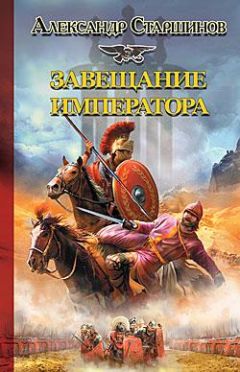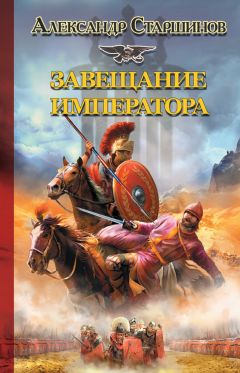Назначение Плиния в Вифинию выглядело малопрестижным — его ожидали разборы вечных споров между местными дельцами, погоня за скользкими, как угри, расхитителями, дела мелкие, грязные, хлопотные. В то время как южнее, в Сирии, готовилось новое грандиозное действо любимого императора под названием «война». Но Плиний, хотя и служил в юности в армии, в полководцы никак не годился, посему занимался финансами и бытом подвластной провинции.
* * *
В Эфес путники и паломники стремятся весной, в месяц мунихион [42], когда в храме Дианы Эфесской проходят грандиозные празднества в честь богини. Храм — чудо, одно из семи, названных Филоном Александрийским, или из восьми, по мнению Плиния Старшего [43]. Располагался храм к северу от Эфеса, настоящий маленький город подле города большого. Здесь жили жрецы (всегда накрашенные, надушенные, завитые красавцы в женских платьях) и женщины-жрицы, а также — флейтисты, трубачи, глашатаи, танцоры и акробаты и множество прислуги, убиравшей огромный храм и обряжавшей статую божества. Азиатская Диана, родня не тонконогой и стройной Диане-охотнице с колчаном и луком за спиной, а груботелесной Великой Матери богов, прародительнице всего сущего. Чем-то похожая на поставленный вертикально египетский саркофаг с разведенными в стороны руками, с множеством сосцов, из которых она готова была напоить густым сладким молоком всех, кто припадал к ее ногам и приносил дары. Большую часть времени статую богини окутывало роскошное покрывало из багряных и золотых тканей. И только в дни празднества Артемисий покрывало медленно поднимали, обнажая сначала ноги, едва обозначенные под злотыми пластинами, потом — многогрудое, опять же золотое, тело — и наконец сделанное из слоновой кости лицо. Богиня взирала на своих почитателей глазами из самоцветных каменьев, а ее разведенные в стороны руки, лежащие на золотых подпорках, открывали объятия будущему лету.
Кроме главного кумира, в сокровищницах хранили статуи поменьше — золотые и серебряные, дары разбогатевших торговцев и магистратов Эфеса, здесь же висели бесценные картины, в том числе портрет Александра, сделанный самим Апеллесом, тот самый, на котором великий завоеватель изображен с молнией в руке. Изображен столь искусно, что казалось — рука с молнией выступает из холста, грозя опалить огнем каждого, кто окажется к картине слишком близко.
* * *
Восток встретил путешественников жарой, духотой, малопонятной речью, в которой Приск лишь изредка угадывал слова классического греческого, подозрительными вопросами таможенника.
Покинув гавань через портовые ворота, путники вступили на Аркадиану — широкую мощеную улицу с колоннадами по обеим сторонам. Вдоль главной улицы шли гимнасии и роскошные бани — в городе, обладавшем отличными акведуками, понимали толк в хорошем мытье. Как и в театральных постановках. Но Приск не собирался в театр — его путь лежал на агору, где находились многочисленные лавки и где торговали рабами.
Военный трибун, отправляясь в путь, совершил промашку — не взял никого, кто бы прислуживал ему в пути. Юному легионеру из Пятого Македонского, каким начинал свою карьеру Гай Приск, не требовался помощник — он все делал сам, но военному трибуну без прислуги было уже не обойтись. Стремясь обеспечить как можно больше спутников Кориолле и детям, Приск отправил почти всех домашних с женой, а сам пустился в путь только с Марком Афранием и вольноотпущенником Максимом. К слову сказать, Максим совершенно не годился в прислугу.
В Эфесе находился один из самых бойких рынков живого товара. Беда только в том, что сейчас в средствах военный трибун был весьма ограничен (потратиться в дороге пришлось куда больше, нежели Приск рассчитывал). А рабы даже после Второй Дакийской кампании Траяна стоили недешево.
Обойдя клетки с мужчинами и подростками, Приск вскоре понял, что может приобрести только половинку или четверть раба. Юный Марк плелся следом, ругаясь сквозь зубы: он устал, к тому же в последний день путешествия море штормило, и юноша жестоко страдал от морской болезни. Теперь он постоянно пил из фонтанов и ничего не ел, а Максим, по своему обыкновению, молчал и глядел мрачно, на ходу жуя купленную в таверне лепешку. И хотя он таскал за Приском вещи, делал это с таким видом, будто оказывал военному трибуну огромное одолжение.
Наконец, отчаявшись, Приск обратился к торговцу рабами наугад, сказал, что ищет паренька в услужение, но готов заплатить только двести денариев. Двести денариев? Тучный грек презрительно скривил губы.
— Господин, за двести монет здесь продадут только увечного или хромого. Или такого, что на голову болен. Тебе такой нужен?
— У меня все рабы с изъяном, — усмехнулся Приск. — Одному даки выбили глаз, второй — лентяй, каких поискать, третий был всем хорош, но обжора, к тому же вор. Помер сразу после Дакийской войны… Еще год мне служил сумасшедший красавец, что мнил себя посланцем богов.
— С изъяном, говоришь? — встрепенулся торговец. — А знаешь, найдем-ка мы тебе подходящий товар.
Он прошел между клетками и вытащил из самой последней, уже опустевшей, забившегося в угол парня лет двадцати. Тот был невысокого роста, но ладно скроен, крепок и явно вынослив, так что вполне годился в прислугу в грядущем походе. Изъян был один — изуродованное ожогом лицо. Физиономию парня так свело на сторону красными змеистыми рубцами, что казалось, раб все время скалится в дерзкой усмешке. Приск вдруг подумал, что этот парень вывезен ребенком из Сармизегетузы Регии, и ожог на лице — знак недавней войны, след пламени, в котором исчезла столица гордого дакийского владыки.
— Раб послушен и вынослив, — принялся расхваливать попорченный товар хозяин. — Молчалив только. Слова за день не вытянешь. Разве что — из-под плетки.
— А мне болтун не нужен.
Парень зыркнул из-под ресниц, будто ударил кинжалом, и вновь принялся рассматривать свои босые ноги. Ого! С ним надо держать ухо востро — может и камнем по башке приголубить, а потом сбежит в пустыню известной только ему тропой.
— Одежда у него есть? Плащ? Сандалии? У меня ведь служба впереди, а не развлечения по лупанариям.
— Эк чего захотел! За половинную цену одежду в придачу. Мне его прежний хозяин, почитай, голым отдал. А теперь вот приличная туника имеется.
Приличная туника! Так назывались какие-то лохмотья, лоскуты, наскоро и грубо сшитые, чтобы чуть-чуть прикрыть тело. Эту гадость придется отстирать и использовать вместо подстилки в пути.
— Что он умеет? — поинтересовался будущий хозяин, в глубине души понимая, что парня придется купить — никого лучше он сегодня не найдет.
— Сготовить полбу, коня взнуздать, огонь развести, — принялся перечислять продавец. — Прежде прислуживал торговцу, что водил караваны ослов через Киликийские ворота [44].
«Ого… парень знает дороги, и не только те, что вымощены и отмечены милевыми столбами», — тут же сообразил Приск. Но не подал виду, что прежние занятия паренька ему интересны.
— Как его зовут?
— Сабазий. Но все кличут уродца Баз.
Парень оскалился — видимо кличка ему не нравилась.
Заплатив требуемые двести денариев, Приск отправился с новокупленным рабом в соседние лавки — за толстым плащом на дорогу и крепкими сандалиями.
— Твое настоящее прозвище? — спросил первым делом Приск.
— Первый хозяин звал меня Ганимед, — отозвался парень без тени улыбки.
Красавчик Ганимед, которого Юпитер-Зевс похитил, дабы тот прислуживал богам на Олимпе. Ну надо же… кому пришло в голову так прозвать парня?
— Пусть будет Сабазий, так?
Раб молча кивнул.
— И далеко ты ходил с прежним хозяином? — поинтересовался военный трибун небрежно, после того как снабдил Сабазия не только плащом и сандалиями, но и новенькой туникой (правда, из дешевого грубого льна), поясом, а с ним и кожаной потертой сумкой для нехитрых рабских вещей.
— Далеко ходили. До самой Хатры. А оттуда — и до Селевкии, что на Тигре. И в Нисибис ходили, и в Батны.
Ну надо же! Фортуна решила вновь одарить Приска своими дарами. Селевкия на Тигре стояла напротив Ктесифона, резиденции парфянских царей. Город торговый, по преимуществу греческий, хотя наверняка там можно найти торговцев со всего Востока.
— Далеко… — только и кивнул трибун, опасаясь обнаружить свою радость.
— Чего там… Дело нехитрое, — буркнул парень, разглядывая кожаную сумку, которая прежде служила не один год какому-нибудь ауксиларию [45].— До Хатры караванные тропы натоптаны, а подле Хатры колодцы чередой — слепой бы дорогу нашел. Ага! Тут и кремень есть! — воскликнул он, вытаскивая завернутый в тряпицу кремень, что так и остался на дне старой сумки.