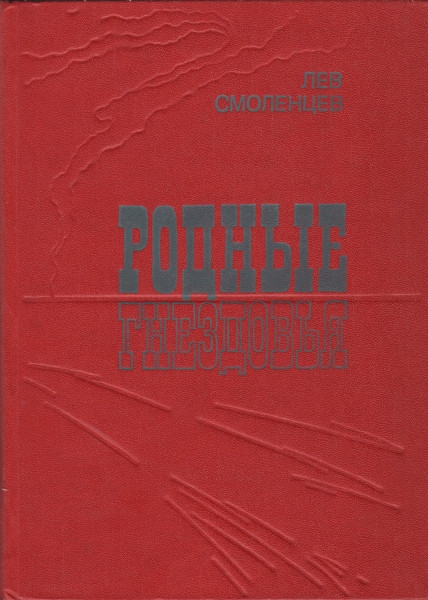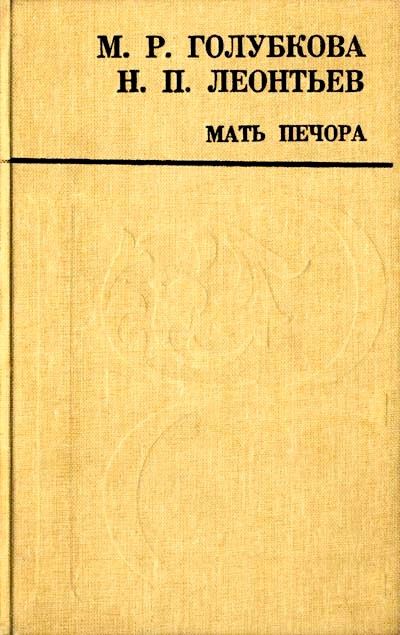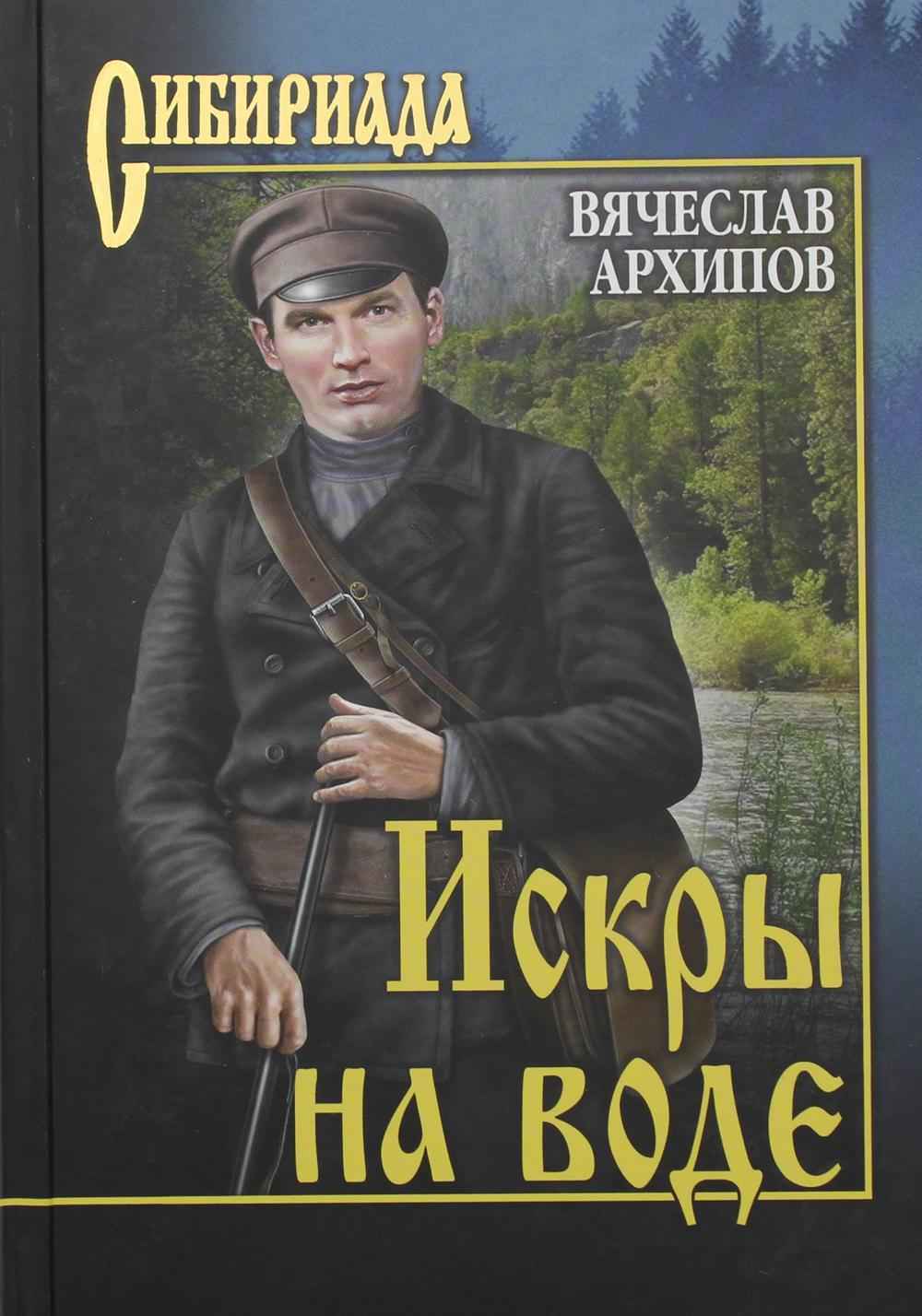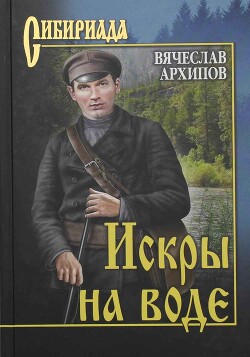покинутый своим кумом, перебрался в рулевую рубку, распахнул окно и с азартом дергал веревку пароходного гудка:
— Во славу Петра! — кричал пристав и тут же дергал за веревку. — Ла-у-у‑у!!! Ла-у-у‑у!!! — неслось над Печорой. — Во славу Тафтина!!! — кричал взлохмаченный пристав. — Ла-у-у‑у!!! — подхватывал пароход.
— Комедь, да и токо! — плевались и хохотали мужики и бабы на берегу.
Никифор, лихорадочно сгрузив остатки багажа Журавского, отвязал от кнехта свою лодку, прыгнул в нее и, быстро заработав веслами, поплыл в нижний конец Усть-Цильмы к казначею Нечаеву.
* * *
Казначей Нечаев, выслушав сбивчивый рассказ Никифора о внезапном аресте Крыковым его прошлогоднего знакомца, кинулся к исправнику Рогачеву. Вера, не спросив, о ком речь, не чуя еще ветреным девичьим сердцем беды друга, встретила его словами:
— В Ижме они, дядя Арся. Катя первенца родила, на крестинах они.
Катя, учительница в Ижме, была второй замужней дочерью Алексея Ивановича и Натальи Викентьевны. Старшая дочь жила в Харькове за богатым архитектором Гапоновым. Катя же полюбила крутонравного Андрея Норицына из зырянского рода Семяшкиных, бывших когда-то бурлаками чердынцев Алиных. Отец Андрея — Пэтер Норица — каким-то образом собрал денег на маленький пароход «Печору», нанял Бурмантова, перевез судно на лошадях из Камы на Печору и повесил на свой дом огромную вывеску: «Пароходство Норицын и К°». Ижемцем Семяшкиным Пэтер, по прозвищу Норица, оставаться расхотел, потому выхлопотал себе паспорт на фамилию Норицына и выискал себе русскую жену. К тому времени, как Норицыны породнились с исправником, они завезли с Камы еще два буксирных парохода: «Ижма» и «Помощник». У исправника же Рогачева, содержавшего пятерых дочерей и сына только на жалованье, особого выбора и не было, замужество Кати казалось выгодным; поспели для замужества и последние дочки: двадцатилетняя Вера и восемнадцатилетняя Лида. Подрастала младшая Наташа.
— Когда хоть вернутся-то, Вера? — обреченно опустился на стул Нечаев.
— На две недели поехали... Что стряслось, дядя Арся? Банк обокрали?
— Хуже, дева, хуже: жизнь людскую воруют, крылья обрезают... Помнишь «горку-то» прошлу? Студента-то питерского?
— Андрюшу? Журавского?
— Его, его, сердешного. Тафтин с Крыковым схватили нонь на пароходе, да в клоповник...
— Что ж вы, дядя Арся, сидите-то?! Идемте к Крыкову, — засуетилась Вера.
— Без пользы: пьян, куражится на пароходе... В Ижму, дочи, надо ехать, к исправнику, к отцу твоему... Он не закоростился. Пойду собираться на утро, а ты, дева, сходи...
— Я поеду, я! — закружилась Вера по комнате. — Помогите, помогите, дядя Арся, добраться до Ижмы... Я должна выехать сегодня, сейчас!
— Видать, припекло сердечко-то, — внимательно посмотрел на Веру казначей. — Может, оно так-то и лучше... Собирайся, пойду заказывать лошадей. Провожатым тебе будет Никифор — у него тож сердце болью о Журавском заполнено. Да и Алексею Иванычу лучше его об Андрее не обсказать — бумагу какую-то Тафтин ему на пароходе подсунул, да и велел правду о самоди написать... Вот она, правда-то, куда прячется — в клоповник... Как сберешься, дева, прибегай ко мне.
* * *
Вызволила из неволи Вера Андрея на пятые сутки. Ее отец — дородный помор исправник Рогачев — принудил Крыкова принести извинения студенту Журавскому.
— За что упекли в клоповник студента, командированного научным обществом? — спросил исправник пристава.
— Я тут с боку припека, — зная своего земляка, напрямки выложил пристав. — Тафтин подсунул ему «крамолу»... Он и повелел арестовать. Глянул бы, Алексей Иванович, в его бумаги: печорский царь!
— Да, кесарево — кесарю... Добился-таки... Он тебе не сказывал, какой занозой в его царский зад воткнулся Журавский? А, Крыков? Он же крестный отец твоей Сашеньки.
— Хорош кум, да лучше свой ум. Тебе ли, Алексей Иваныч, Тафтина не знать — почитай, во всех уездах вместе служили.
— Да-а... Где он сейчас?
— На сугланы, на самоедские сходы, в Колву, в Петрунь поспешил.
— Да-а... Прочел, прочел я «Самоедский устав». — Исправник положил руку на испещренные четким почерком Журавского листы с постановлением мезенского съезда. Рука скрыла листы полностью, и Крыков, опередив Рогачева, сказал:
— Пусть у тебя останутся... Может, и остальные документы сам отдашь?
— Нет, паря: нашкодил, так понюхай, загляни в глаза-то чистые! Отнесешь, отдашь бумаги его высокородию Журавскому, извинишься и выпустишь. Да в глаза, в глаза его смотри!
Крыков не остался в долгу:
— Увижу ишо не раз, коль зятем твоим будет... — Но сказано это было не как точка в жесткой беседе, не как торжество провинившегося, а с добродушной, дружеской улыбкой, словно Крыков был уже приглашен на свадьбу Журавского с Верой. Однако Рогачев понял: ни наказывать, ни возвращаться к этому делу нельзя.
* * *
...От жестокого потрясения отходил Андрей медленно. Угнетало его и то, что в Архангельск и Петербург теперь, когда ушли последние пароходы, попасть можно будет только после того, как установится зимний путь по семисотверстному тракту от Усть-Цильмы до губернского центра.
— Не печалься, Андрюша, — успокаивала его Вера, — по первому зимнику за четыре дня, много за неделю, будешь в Архангельске.
— До зимника, Вера, полтора месяца. За это время меня отчислят из университета. Я и так живу у вас третью неделю.
— И мы надоели вам?
— Что вы! Вы так милы и заботливы, что я не знаю, как вас и благодарить.
— Мне не надо благодарности, милый вы мой, — вырвалось у Веры. — Я люблю вас, Андрей.
— И я вас, Вера...
В другой комнате в это же время Наталья Викентьевна говорила мужу:
— Вот бы, Алеша, дал его бог нам в зятевья: милый, образованный, дворянин. И сирота он, Алеша, — так и погладила бы его по головке.
— Одно на уме: как бы Веруньку пристроить. Рада за первого встречного, — незлобно проворчал исправник.
— Ничегошеньки-то ты не понимаешь и не видишь! Да у них с Верунькой любовь.
— Ишь как быстро узрила чужие души.
— Свои они нам, Алешенька, свои... Помоги ему, Алексей, уехать в Архангельск — сил нет смотреть, как он рвется в университет.
— Вот и пойми их: то любовь, то помоги