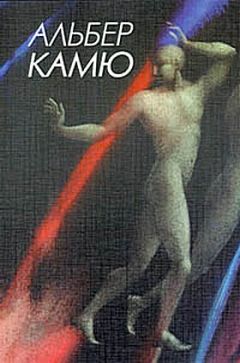На корабле Цвейг начал писать новую книгу, книгу о сострадании, которое только тогда несет добро, когда это сострадание настоящее, когда сострадающий готов до конца нести страдания другого. Это история молодого офицера старой австрийской армии, который из-за своей слабости и мягкосердечия, скрывавшего в действительности лишь желание избавиться от вида несчастья, становится виновником смерти больной девушки, которую он хотел спасти, движимый человеколюбием. История заканчивается тем, что офицер почти с упоением бросается в сражения Первой мировой войны, чтобы только освободиться от себя, от своей жизни, своей вины. Книга будет называться «Нетерпение сердца»; это единственный роман Стефана Цвейга. Вопрос, возможно ли жить без чувства вины, всегда волновал его, а сейчас, в годы изгнания, больше, чем когда-либо.
Стефан Цвейг – человек, который читает людей, как книги. И поэтому их не судит, а понимает. И поэтому не желает выбирать между возможностями. Вообразите: молодой Стефан Цвейг, ему лет двадцать пять, мягкое лицо, усы и крошечные очки. Он на пароходе, который должен доставить его из Генуи в Неаполь. Он подружился с помощником стюарта [73], молодым итальянцем Джованни. Перед тем как отчалить, Джованни приносит ему письмо и просит прочитать ему вслух. Цвейг недоумевает. Почему бы самому не прочитать? Оказывается, тот неграмотный. Путешественник не может в это поверить. Ведь его мир – это мир книг, и все свои знания, мысли, свою любовь он почерпнул из книг. Он никогда раньше не задумывался об этом, а вот сейчас словно прозрел: стена отделяет его от этого Джованни. Кем бы он был без чтения, без книг? Он не может себе этого представить. Цвейг опишет все это позже в эссе «Книга как врата в мир»: «И я понял, что милость или дар мыслить широко и свободно, со множеством разветвлений, что этот великолепный, единственно верный способ видеть мир не с одной, а со многих сторон дается в удел лишь тому, кто сверх собственного опыта впитал опыт многих стран, народов и времен, собранный и хранимый книгами, и я ужаснулся тому, каким ограниченным должен казаться мир человеку, лишенному книг. Но и самой своей способностью все это продумать и так остро почувствовать, сколь убог бедный Джованни без высокой радости мировосприятия, этим неповторимым даром потрясаться чужими, случайными судьбами – не обязан ли я своей близости к книге? Ибо что делаем мы, читая, как не живем жизнью чужих людей, смотрим на мир их глазами, мыслим их мозгом? И одно это благодатное и одухотворенное мгновение наполнило меня горячей признательностью при мысли о неисчислимых мигах счастья, дарованных мне книгами. <…> Я вспоминал знаменательные решения, принятые благодаря книгам, встречи с давно умершими писателями, порою более для меня важные, чем встреча с женщиной или другом, ночи любви, проведенные с книгами, когда забываешь о сне ради высокого блаженства; и чем больше я думал, тем больше приходил к убеждению, что наш духовный мир складывается, как из миллионов монад, из отдельных впечатлений, коих наименьшую часть составляет лично увиденное и пережитое, а всем прочим – основной массой – мы обязаны книгам, прочитанному, воспринятому, изученному» [74].
Именно это вдруг озарило Цвейга у берегов Генуи на борту парохода. Без книг мир остается закрытым. Его мир. Тот мир, какой он видит и какой описал во всех своих произведениях. Который сострадает, восхищается, живет, не причиняя вреда другим. Об этом он написал небольшой рассказ, но вряд ли кто-то обратил на него внимание. Он называется «Антон», это история о человеке, который просто живет в маленьком городке. Ремесленник, умеющий делать все, что полагается уметь в жизни, помогающий тем, кому нужна помощь, берущий ровно столько денег, сколько надо для жизни. Он всегда появляется, когда в нем нуждаются, и исчезает, когда нужды нет. Рассказ заканчивается так: «Много лет я не слышал об Антоне. Но с трудом могу себе представить кого-то, о ком можно меньше тревожиться: он никогда не будет оставлен Богом и, менее всего, людьми».
Стефан Цвейг всегда открыто исповедовал и защищал свое право оставаться в стороне. Даже перед теми, кто, как он знал, за это его презирает.
Еще находясь в Остенде, он писал своему старому другу Ромену Роллану, которого любил за книги о музыке и пацифизм и который между тем стал идейным коммунистом и сталинистом: «Мой враг – догматизм любого извода, изолированная идеология, стремящаяся уничтожить всякий иной образ мышления. Фанатизму следовало бы противопоставить антифанатизм». Это он пишет фанатику Роллану и заключает: «Мой дорогой друг, я часто думаю о вас, ведь мы становимся все более одинокими. Слово уступает жестокости, и то, что мы называем свободой, непонятно нашей молодежи, но придет другая. И она поймет нас!» Всю свою надежду он вложил в это письмо к старому другу. Ответ пришел сдержанный, воинственный, однозначный: «Нет, я не один и ни в коем случае не одинок, как вы пишете. Напротив, я чувствую себя окруженным дружбой миллионов людей из всех стран и отвечаю им взаимностью». Партийный писатель посмеивается над одиноким другом, не желающим участвовать в битвах современности. «Слова Фауста становятся реальностью: Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой [75]. Если я где и одинок, так это среди своих коллег-писателей».
Да, гораздо проще примкнуть к какому-нибудь движению, идеологии, партии. Как безопасно, стоя на скале убеждений, подтрунивать над отчаявшимися и одинокими. Это очень легко, и никто так не облегчает труд идеологов, как Стефан Цвейг, который открыто заявляет о своем непонимании целой эпохи: «Может быть, это моя последняя большая поездка, кто знает?» – сообщает он в том же письме Роллану. Последняя поездка.
* * *
Это немного похоже на то, что было в 1914 году, когда он покинул Остенде на последнем поезде. Стефан Цвейг снова отправляется на войну. Правда, ненадолго и всего лишь транзитным пассажиром на корабле. Но в Европе снова война, и из всех политически ангажированных, воинственных коллег, собравшихся в Остенде, именно Стефан Цвейг первым делает остановку в Испании. 10 августа корабль подходит к испанскому порту Виго, перед входом в бухту стоит американский крейсер, сойти на берег можно, но только на свой страх и риск. Цвейг сходит на берег. Он видит «город, толпы ополченцев, одетых с иголочки, вымуштрованных почти как немцы, в синих матросках, в рубашках цвета хаки и шлемах. Тринадцатилетние мальчишки, вооруженные револьверами, живописно слоняются возле укреплений в ожидании, когда их сфотографируют, – но бросается в глаза и то, что многие жители не носят красные фашистские значки. Я вижу и фотографирую тяжелые камионы [76], набитые отправляющимися на фронт солдатами в стальных касках – они выглядят так же дико, как и наши хеймеровцы [77], и, как сказывают, во время боевых действий строго соблюдают сиесту». Фланёр из старой Европы на пороге войны. «Здесь можно бродить часами, не подозревая, что фронт в часе езды». И Цвейг бродит часами, видит сапожников за работой, видит свою «Марию Стюарт» в витрине книжного магазина в соседстве с опусами Гитлера, книгой Форда против евреев [78] и «тому подобной чепухой». Он видит потрясающе красивых людей, ослов, упряжки волов, юркие автомобили и «великолепные воплощения Гойи – старух с растрепанными, потными, пыльными волосами, грязными ногами, шествующих с царским достоинством». Цвейг околдован, изумлен, восхищен, он бродит по краю поля битвы, которое станет полигоном для грядущей великой войны, и находит все чудным и живописным. Два часа в Испании стоят целого года в Англии, восторженно записывает он в дневнике. И тут же фраза: «Как в свое время в Вене». Цвейг догадывается, что перед ним предвестники нового мира и окончательного крушения его мира, иначе он не упомянул бы о Вене былых времен, но в последний раз он не желает, чтобы это было правдой. В последний раз он хочет видеть только красоту, красивых людей, добро в мире. Испания перед бездной, счастливые люди, «кусочек волшебства».