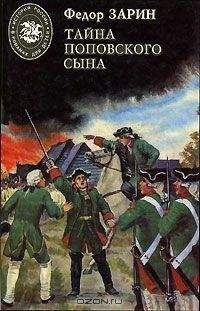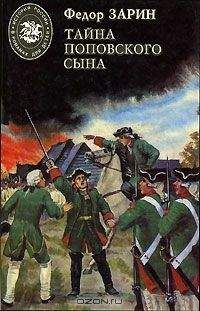— Я не холоп, — уверенно, с достоинством произнес Кочкарев, — мне не запрещал говорить и сам великий император, а не то что…
— О-о-о! Ты и здесь бунтуешь, — надвигаясь на Кочкарева, прохрипел Бирон, — так я же отучу тебя от этого…
И, не помня себя, он высоко поднял хлыст.
Красные круги заходили в глазах Артемия Никитича.
«Конюх, шут», — пронеслось в его голове, и, отступив на шаг, весь дрожа от бешенства, он быстро извлек до половины из ножен шпагу и глухим, прерывающимся голосом проговорил:
— Осторожнее, ваша светлость!
При всех своих качествах Бирон был еще и трус.
Он страшно побледнел и отскочил назад. В ту же минуту двадцать рук схватили Артемия Никитича и сорвали с него шпагу…
— Вон! В Тайную канцелярию, — задыхаясь, произнес Бирон.
«Все кончено, я погиб!» — решил для себя Кочкарев.
XIII
В СЕМЬЕ ТРЕДИАКОВСКИХ
Жизнь у Тредиаковских совершенно пришлась по душе Сене.
У Тредиаковского было много книг, и Сеня с жадностью накинулся на них. Заметив чрезвычайные способности его, Василий Кириллович в свободное время охотно занимался с ним французским языком, и молодой человек, знакомый уже с латинским, легко усвоил его. В этом ему много помогала Варенька, прекрасно знавшая французский язык. Тредиаковский вечно был занят: или переводил, или сочинял, и, не переставая, дополнял и развивал свое сочинение под заглавием: «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих названий».
В этом замечательном сочинении Тредиаковский первый постиг гармонию русского стиха. В нем он доказывал, что силлабическое стихосложение не свойственно русскому языку, так как в нем нет долгих гласных. «Долгота и краткость слогов в новом сем российском стихосложении, — писал он, — не такая разумеется, как у греков и у латин в сложении стихов употребляется, но токмо тоническая, то есть в едином ударении голоса состоящая».
К сожалению, Василий Кириллович не мог доказать на деле справедливости своей мысли собственными стихами. По большей части они были смешны и неуклюжи.
Но когда впервые прозвучали стихи Ломоносова на взятие Хотина, Тредиаковский в истинном умилении воскликнул:
— Вот идет по мне сильнейший меня пиит, Пиндару равный! Он доскажет все, что я не докончил.
В свободные же минуты откровенных бесед Василий Кириллович рассказывал своему молодому другу свою жизнь, полную труда и лишений во имя науки, которой он отдал все силы своей души. Чего только не перенес он с тех пор, как нищим мальчишкой бросил свой город, дом, семью и от Астрахани почти пешком, голодая и холодая, дошел до Москвы, где добрые люди приняли в нем участие и поместили для учения в Заиконоспасский монастырь. Ему мало показалось монастырского учения, и при помощи счастливого случая, в лице торгового человека, отправлявшегося в Голландию, ему удалось уехать туда же, где он и выучился французскому языку. Томимый жаждой знаний, этот упорный в достижении своих целей сын астраханского попа без гроша в кармане пришел пешком в Париж, чтобы в Сорбонне слушать лекции по математике и философии. Говоря об этом периоде своей жизни, который он считал счастливейшим, Тредиаковский всегда с умилением останавливался на личности князя Куракина, явившегося в Парижа его благодетелем.
Могущественный вельможа принял участие в судьбе бедного студента и все время щедро помогал ему, а потом и привез с собою в Петербург.
Теперь Тредиаковский чувствовал бы себя вполне счастливым, как он говорил, если бы над ним, как черная туча, не висел неотходно ужас перед Волынским. А, как назло, обер-егермейстеру Волынскому предполагалось поручить устройство всех празднеств по случаю ратификации мирного договора. А на этих празднествах нельзя было обойтись без стихов официального придворного пиита, Василия Тредиаковского. В этом случае несчастному пииту не мог помочь даже и его вельможный покровитель, князь Александр Борисович Куракин, всей душой ненавидевший Волынского.
Да, эти мысли отравляли все существование Василия Кирилловича. А все дело из-за басенки, написанной в угоду своему покровителю. Эта басенка была написана Василием Кирилловичем давно и носила название «Самохвал».
Самолюбивый, считавший себя неизмеримо выше всех других, Волынский узнал себя в этих строках:
В отечество свое, как прибыл некто вспять,
А не было его там, почитай, лет с пять,
То за все перед людьми, где было их довольно,
Дел славою своих он похвалялся больно,
И так уж говорил, что не нашлось ему
Подобного во всем, ни равна по всему…
Но за своими работами Василий Кириллович забывал об этих опасениях, да и Варенька всячески старалась отвлекать его от них.
— Ведь в самом деле не лютый же зверь кабинет-министр, — говорила она, — да и притом не до того ему теперь.
Василий Кириллович качал головой и думал про себя:
«Зверь не зверь, а под сердитую руку может ребра поломать да приказать палками до смерти заколотить».
А что Волынскому теперь было не до бедного пиита — это было верно. Он вел последнюю игру, и ставкой была его голова…
Прошло немного времени, и Сеня стал в семье родным. Он знал все мелочи их жизни, когда и сколько получал Василий Кириллович денег, кому случайно задолжал, что работает, где бывает. Узнал он также, что Варенька была не родной дочерью Василия Кирилловича, а его падчерицей. Василий Кириллович женился около десяти лет тому назад, сразу по возвращении из Парижа, на вдове провинциального секретаря, у которого, была шестилетняя дочь. Но через год жена умерла, и Тредиаковский, совершенно одинокий на свете, всей душою привязался к девочке, она платила ему тем же, называла его отцом и ревниво охраняла его покой и работу.
По природе доверчивый и ласковый, Сеня привязался к этой семье и тоже раскрыл им все свои тайны.
Сперва Василий Кириллович был глубоко поражен словами Сени и даже не хотел верить. Но когда Сеня на пустыре за домом показал ему опыт со своей птицей, а потом и свои полеты, Тредиаковский со слезами на глазах обнял его.
— Вот воистину мастер! — воскликнул он. — Слава, слава российскому разуму. Да живет Русь православная!
Тредиаковский был весь день в восторженном настроении, про Вареньку и говорить нечего. Василий Кириллович сам был математик, но он был поражен расчетами Сени. Целый вечер Сеня показывал ему свои чертежи и вычисления. Он теперь строит новый прибор, такой, что человек может сидеть и, сидя, как в лодке, управлять рулем и парусами.
Василий Кириллович со свойственной ему добросовестностью и терпением рассматривал все чертежи и вычисления и, отобрав из них один листок и отложив его в сторону, серьезно проговорил:
— А это спрячь и никому не показывай. Люди интриганы. Без этого все устройство понять можно, но машины нельзя устроить. Понял меня?
Сеня хорошо его понял.
Действительно, одно малое вычисление, одно ничтожное соотношение двух второстепенных частей аппарата было душой всей машины.
Как ясно, как подробно все на чертеже, но без этого не устроить аппарата.
Сеня помнил, как он каким-то чудом, сам не понимая как, натолкнулся на эту мысль.
Действительно, зачем посвящать всех в тайну своего изобретения.
Тредиаковский, не теряя времени, решил поговорить с академиком Эйлером, а также с князем Куракиным, имевшим большое значение при дворе.
Исполненный радостных надежд, Сеня не мог вытерпеть и полетел к Кочкаревым поделиться своими мечтами, а также проведать, как дело Артемия Никитича, и спросить, когда можно показать ему махинацию.
Но в доме Кочкаревых он застал слезы и смятение. Кочкарев пропал без вести. Два дня тому назад он поехал к Бирону и оттуда не вернулся. Напрасно Астафьев и сама Марья Ивановна бросались, куда только могли, никто не мог или не хотел им ответить на их вопросы.
Они отгоняли от себя одну страшную мысль. Всем в Петербурге было хорошо известно, что значило, когда пропадал человек и куда он попадал. Он попадал в то мрачное здание, что стояло у Невской перспективы по направлению к слоновому двору, здание, мимо которого даже неробкие люди избегали ходить, где властвовал неумолимый, кровожадный, с ласковой улыбкой на лице и без единого светлого луча в душе генерал Андрей Иванович Ушаков.
Это была Тайная канцелярия, воскреснувший, по повелению императрицы, Преображенский приказ.
Без вести пропавшие люди находили нередко вечный покой в темных недрах страшной канцелярии, за ее толстыми стенами, которые не пропускали через себя ни самой пламенной мольбы, ни самого безнадежного вопля муки и отчаяния.
Астафьев решил отправиться и туда. С большим затруднением его пропустили в ворота. Длинными темными коридорами привели в какую-то мрачную комнату, где за столом сидел худощавый бритый человек. Он подробно расспросил Астафьева, какое у него дело до Тайной канцелярии, кто он такой, откуда, давно ли приехал и где остановился.