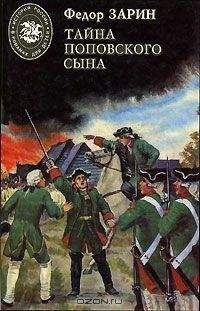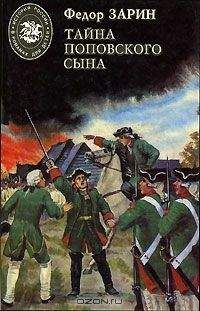Астафьев обстоятельно ответил на все вопросы и в заключение снова попросил сообщить, не в Тайной ли канцелярии для дознания находятся его сын и друг.
Человек записал все его вопросы, встал и молча вышел. Астафьев остался один. Жуткое чувство охватило его. Глубокая тишина царила вокруг. Иногда ему казалось, что он слышит словно звон цепей и глухие шаги в каменном коридоре. Он опустился на железную скамью. Прошло полчаса, час. Он все ждал. Никто не показывался. А что, как его оставят здесь тоже? Да поведут на допрос? Ведь он друг Кочкарева. Захотят узнать, не говорил ли когда Артемий Никитич чего-либо против герцога, и мало ли еще что?
И Астафьев был прав, такое положение было вполне возможно. За одним виновным тянули к допросу целую цепь его родных, знакомых, слуг.
Тревога Астафьева росла.
Его жизнь и честь находились теперь во власти Ушакова. И как он раньше не подумал об этом? Как дерзнул сам броситься в пасть дракону? И что он выиграл? Оставаясь на свободе, он мог добиваться спасения своего сына, пойти к тому же Бирону, молить его, в крайнем случае, искать возможности просить саму государыню.
А что теперь?
Время тянулось. Астафьев хотел встать и уйти, но боялся. Он не знал дороги. Быть может, еще попадет туда, откуда вовсе никогда не выпустят.
Он взглянул на свои часы. Оказалось, что он сидит уже больше двух часов в этом каменном гробу.
Наконец дверь неслышно отворилась, и появился тот же бритый человек.
Астафьев вскочил со скамьи.
— Вы можете идти, сударь, — начал этот человек, — понеже сие есть Тайная канцелярия, то и дела ее суть тайные. А коли вы в чем надобны будете, то вас не преминут пригласить к следствию и допросу, тем паче что вы сами заявились сюда.
— Но здесь ли мой сын? — воскликнул в тоске Астафьев.
Вместо ответа бритый человек позвонил в колокольчик, стоявший у него на столе, и почти в то же мгновение не замеченная ранее Астафьевым позади стола дверь отворилась, и вошли два солдата с ружьями.
— Проводите до ворот, — коротко приказал бритый человек и вышел из комнаты.
Опять Астафьева повели по темным коридорам, ему казалось, что его вели теперь другим путем.
Его вывели во двор и выпустили в ворота.
Когда тяжелая железная калитка захлопнулась за ним, он облегченно вздохнул и перекрестился.
До дому было недалеко. Там уже ждали его в тяжелой тревоге.
Он рассказал все, что с ним произошло, и у всех на душе стало еще тяжелее, потому что, по-видимому, уже не могло быть сомнения в том, что и Артемий Никитич, и Павлуша попали в цепкие лапы Ушакова.
Мало того что они находились в Тайной канцелярии, теперь было очевидно, что опасность угрожала и находящимся пока на свободе.
— Воистину положи меня! — воскликнул старый стольник. — Нет спасения. Еду к всемилостивейшей государыне Анне Иоанновне.
Сам не свой вернулся Сеня к себе. Варенька даже вскрикнула, увидев его бледное, измученное лицо. Он рассказал все, что узнал.
— Плохо дело, — проговорил Василий Кириллович, — только одно остается — просить государыню. Да что! — сейчас же безнадежно махнул он рукой. — Она на все смотрит очами герцога.
И, как недавно Кузовин, он с тяжелым вздохом закончил:
— Нет спасения!
«Вот когда я могу отблагодарить за все, — снова подумал Сеня. — Только во мне спасенье».
Он не поделился с Тредиаковским своею мечтою, но жадно стал расспрашивать, видел ли он Эйлера или Куракина и что они сказали ему.
Василию Кирилловичу удалось утром повидать Эйлера, и он сумел заинтересовать ученого своим рассказом об изобретении Сени.
Куракина повидать не удалось.
Эйлер с удовольствием разрешил Сене прийти к нему с чертежами, обещая, в случае, всякое со своей стороны содействие.
Сеня поблагодарил доброго Василия Кирилловича за его заботы и решил на другой день рано утром отправиться к ученому академику, жившему на Васильевском острове.
XIV
СТАРЫЙ СТОЛЬНИК ДЕЙСТВУЕТ
Рано утром, когда обер-гофмаршал двора Левенвольд собирался ехать во дворец, его адъютант доложил ему, что какой-то странного вида старик непременно хочет его видеть.
— Старик, какой старик? — удивленно спросил Левенвольд.
Адъютант объяснил, что старик одет в какой-то длинный балахон, но, по-видимому, очень дорогой, что у него длинная борода и высокая шапка и называет он себя каким-то стольником.
Это заинтересовало Левенвольда, и он приказал принять.
Через несколько минут он вышел в приемную. Навстречу ему двинулся высокий худой старик, с тощей, но длинной бородой, в длинном боярском парчовом кафтане, отороченном соболем, с большой палкой в руках.
Старик с достоинством, низко, в пояс поклонился обер-гофмаршалу и остановился. Обер-гофмаршал был учтивый человек. Он ответил на поклон странного посетителя низким придворным поклоном и с совершенной вежливостью спросил, кого он имеет честь принимать в своем доме.
Старик стольник гордо закинул голову и с важным видом ответил:
— Холопишко милосердной государыни, боярин Илья, сын Петров, по прозванию Кузовин, бывший стольник блаженные памяти царя Иоанна Алексеевича, родителя ныне благополучно царствующей государыни Анны Иоанновны.
Проговорив эту речь, боярин погладил рукой свою тощую бороду и важно ждал ответа.
«Старый слуга отца императрицы, всеми забытого Иоанна, — подумал Левенвольд. — Императрице наверное будет приятно увидеть его. Так мало помнят и говорят об ее отце, его совсем заслонил царь Петр… Считают царской дочерью принцессу Елизавету, а Анну Иоанновну только императрицей».
Все эти мысли мгновенно промелькнули в голове хитрого царедворца.
— Эй, — крикнул он, — кресло боярину!
В одну минуту под боярина подскочило широкое удобное кресло.
— Я очень рад случаю, — продолжал гофмаршал, — видеть верного слугу великого и достохвального царя Иоанна Алексеевича, родителя нашей всемилостивейшей императрицы… Боярин может приказывать своему слуге.
Польщенный и к тому же уставший, Кузовин с удовольствием опустился в удобное кресло.
— Ныне у вас, боярин, — начал он, — пошли новые обычаи. В мое время николи не бывало того, чтобы кто препоны чинил, ежели боярин или стольник захочет увидеть пресветлые царские очи. Ныне не то пошло. Говорят, надо позволения просить, у кого и назвать не умею. Только вот указали мне на тебя, боярин, не обессудь старика. Дай мне увидеть царицыны очи. А на ласке спасибо. Там мои людишки привезли для тебя двадцать соболей редкостных, боярин, таких, чай, и у самой царицы немного найдется.
Левенвольд смутился.
«Что он, подкупить меня хочет, что ли», — подумал он. но, взглянув на благородное лицо Кузовина, решил, что, должно быть, таков был обычай в «Древней Руси», и ответил:
— Да, боярин, многие хотят повидать императрицу, всякие есть, да не всякого допустить можно.
— Верно, верно, — подтвердил Кузовин, — воистину положи меня, сколько расплодилось теперь этих самых чертей зам…
Боярин поперхнулся на слове, вовремя спохватившись, что Левенвольд тоже заморский черт…
— А ваше желание я готов исполнить хоть сейчас, — продолжал Левенвольд. — Мы вместе можем ехать во дворец, там я доложу о вас, и всемилостивейшая государыня наверное не откажет принять вас.
«Государыня теперь хандрит. Это чучело, быть может, позабавит ее немного. Я предупрежу герцога. Он будет благодарен мне».
Повеселевший при этих мыслях, Левенвольд сам помог подняться с кресла старому боярину.
Выйдя на крыльцо, Левенвольд еще больше был поражен: Кузовин сел в карету, запряженную шестеркой лошадей. Впереди в остроконечных шапках стояли два вершника, сзади несколько человек вооруженных саблями конных слуг.
Левенвольд только пожал плечами.
Встречные в изумлении останавливались, когда видели скакавших вершников, громко кричавших:
— Гей-гей! Дорогу боярину!
Экипажи торопились свернуть в сторону, и с шумом и криком неслась по улицам столицы карета боярина.
А за нею по двое в ряд, гремя саблями, на красивых буланых конях несся отряд его людей.
Старый стольник действительно не пожалел заветной кубышки, чтобы не уронить своего достоинства. И костюмы, и кони, и экипаж стоили ему немалых денег.
Шумный поезд остановился у ворот дворца.
Боярин с помощью слуг вылез из экипажа и с непокрытой головой направился ко дворцу.
Левенвольд попросил старика подождать в первой приемной круглой зале, а сам поспешил к Бирону.
Бирона он застал в стеклянной галерее, выходившей окнами на Неву, галерея соединяла внутренние покои с церковью, где в настоящую минуту была государыня у обедни.
В немногих словах Левенвольд передал герцогу о посещении Кузовина, очень живо описал его самого, его манеры и его выезд, так что даже по губам Бирона скользнула тень улыбки.