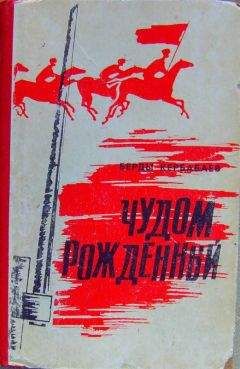— Зачем же он понадобился Джепбар-Хоразу? У Джепбара дурная слава.
— Зачем нужна ширма тому, кто гол?
— Говорят, что Атабаев никому не позволит съесть «чужую долю.
— Он сам не возьмет крупинку чужой соли.
— А ты почем знаешь?
— Когда я получил в банке ссуду, сунул Атабаеву рупию. Купи, мол, себе халвы. Он с кулаками на меня полез. Я, говорит, не нищий и не взяточник. Вы, говорит, сами учите чиновников брать взятки.
— Может, ты мало дал?
— Говорят, Джепбар-Хораз предлагал пять тысяч рупий.
— Неужели не взял?
— Чуть не задушил и выгнал из дома.
Тедженец удовлетворенно улыбнулся и надвинул тель-пек на лоб.
— Тогда хорошо!
К осени продовольственные управы создали ужасающую неразбериху, и Кайгысыз Атабаев, осунувшись от бессонного кружения по аулам, от бесконечных митингов и заседаний, мрачнел еще больше от того, что с каждым днем убеждался: чиновники неспроста запутали дело с выдачей продовольственных карточек. Они добиваются озлобления людей против Советов. Жулики и саботажники в фуражках с царскими кокардами мутят народ.
Политика! Всюду подлая вражеская политика, и даже там, когда речь идет об открытии детского приюта на окраине Мерва.
Какая тяжелая ноша — кормить уезд и город! Уже С прошлого года военная разруха подорвала все связи Туркестана с Россией. Кончился подвоз хлеба из русских губерний. Средняя Азия должна была существовать на подножном корму. Вот когда сказались последствия колониальной политики прошлых лет; в погоне за бешеными прибылями российский капитал почти все пшеничные поля от Ташкента до Асхабада занял под посевы. хлопка. А кому теперь нужен хлопок? От бескормицы а кочевых аулах гибнут стада верблюдов и овец… и кто накормит дехканина? В городе можно установить паек, хотя бы четвертушку — четверть фунта хлеба на человека. А вот как прокормить аулы?
Председатель продовольственного комитета метался по городу. Ночью на телефонной станции дожидался вызова из Ташкента, чтобы требовать подачу вагонов с хлебом. Утром шел с рабочими и солдатами производить массовые обыски в магазинах, на складах, на квартирах своих вчерашних знакомых купцов — из тех, с кем прежде встречался в чайхане «Елбарслы».
Нет больше чайханы «Елбарслы». Атабаев открыл в ней столовую с бесплатными обедами для голодающих.
Где-то, говорят, откопали рис в яме на байском дворе — надо спешить туда! На кожевенном заводе русский управляющий — старая контра — уволил сразу пятерых туркмен, лишил их продкарточек; а там в двух семьях дети умирают от сыпняка. И Атабаев спешил на завод с представителями Совета. С винтовками не расстаются, потому что прямо из рабочего барака хотят отправиться в аул реквизировать хлеб у крупного мервского мукомола. Он спрятал хлеб в ауле, а сам ходит по городу и торгует ворованными карточками.
На станции, говорят, самосудом убили спекулянта, который приехал из Дербента и привез масло по диким ценам. Торгаш совсем потерял голову: требовал золота, драгоценности у голодных аульных женщин…
Кайгысыз Атабаев качался от голода и усталости. Пожилой русский солдат, точно отец ребенка, поддерживал его, когда он обходил три вагона с хлебом, пришедшие впервые за два месяца.
Хорошо. На два дня Мерв обеспечен хлебом… А чай? А соль? А махорка? А мыло?..
В ту зиму он жил у русской женщины Даши. Атабаев нужен был десяткам тысяч людей — всему уезду. Он кипел, действовал. Но когда вваливался в теплую комнатку с низким потолком, Даша снимала с него сапоги, потому что у него не было сил, чтобы разуться. И он засыпал в одну минуту. Она подкладывала ему под голову подушку и проводила мягкой, доброй своей ладонью по его черному от усталости и пыли лицу.
Он был нужен десяткам тысяч голодных людей. Нужен был и Даше…
Только кормил он ее плохо. Не было толку от этого крупного начальника. А еще говорят туркмены: «Кто держит мед, у того и пальцы сладкие». Он приносил Даше свою зарплату, но что можно было купить на нее? Кочан капусты? Даша стирала и гладила его рубашки, знала им счет: две сатиновые и еще какая-то местная, не разбери-поймешь. А костюм? Он до того обтрепался, что русская соседка, моргая хитрыми глазами, не раз говорила Даше:
— Ну и прижимист твой Костя! Копите? Через его руки столько добра идет — дворец тебе мог бы построить, А ходит, как оборванец…
Это было в феврале, в понедельник, и этот день запомнился Атабаеву. Он собрался идти на работу, Даша поставила перед ним пиалу бледного чая, положила ломоть серого хлеба. Она сидела напротив него, смотрела, как он пьет чай маленькими глотками, вздыхала, а потом не выдержала, сказала:
— Что ты за человек, Костя…
Атабаев улыбнулся, понимая, что к чему сказано.
— В точности такой, каким ты меня видишь.
— Ты там, в городе, вспоминаешь, что у тебя есть дом?
— Даже в аулах, на дорогах, все время стоишь у меня перед глазами.
— Почему же не видишь, что у меня на столе?
— Ничего тут нет такого, чего можно было бы не заметить.
— Вот об этом и говорю.
Атабаев нахмурился.
— Может думаешь, что уношу свой паек в другой дом?
— Ох, голова… Разве я об этом?
— О чем же?
— Что ты не должен уходить на работу голодными, когда через твои руки продукт на весь уезд идет.
— Ты хочешь сказать — воруй?
— Какое же воровство: взять за деньги два-три фунта сахара?
— Разве эти два-три фунта нужны только нам?
— Мне дела нет до других! — отрубила Даша.
— То-есть, как?..
— Пять пальцев на руке, и все бог создал разными. По делам и почет. Я-то, черт с ним, как-нибудь не сдохну… А тебя шатает на ходу… Проглотил ломтик хлеба и до обеда в рот крошки не возьмешь… А обед?
Кайгысыз ласково поглядел на Дашу — видно, наболело у нее, надо с ней по-хорошему, можно ли обижать измученного человека.
— Пойми, Дашенька, сейчас голод уводит на кладбище больше людей, чем когда-то уводила чума. Ты выросла в Мерве, ты же знаешь. Разве видела столько попрошаек, нищих с сумой?
— Значит, и нам голодать, если другие голодные?
— Слышала поговорку: «Люди плачут — плачь, люди смеются — смейся!»
— Нет мне дела до людей.
— Глупости говоришь! — вспылил наконец Атабаев.
— Ах, вот как! Ну, знай: или голод уйдет из этого дома или сам уходи!
— Еще глупее… Не думал я…
Даша, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты, Атабаев постоял молча у двери, натянул на голову измятую фуражку, сунул под мышку портфель и отправился на работу
Еще на лестнице в продкоме его обступила толпа дехкан и рабочих. Они пришли с женами и детьми. Он едва пробился в свой кабинет. Но и тут было полно просителей. «Надо будет как-нибудь привести сюда Дашу», — подумал он и бросил фуражку на стол.
Не все приходили с просьбами или жалобами. Многие— с угрозами. Если люди едят траву, а власти не могут выдать хотя бы пузырек постного масла, чтобы смазать сковородку, баям и муллам не трудно сеять смуту и озлобление. И Кайгысыз часто слышал безумные речи за полуоткрытой дверью. Горько было сознавать, что под дудку бая поют бедняки.
— Босоногие захватили власть, — кричал босоногий, — а что мы получили — одну беду? На словах этот Кайгысыз сдабривает лапшу маслом, а на деле — оскверняет веру отцов…
— Семена безверья взойдут раньше, чем ячмень заколосится, — со злобой подхватывал другой голос.
— Хотят уравнять бедняка с баем! Тьфу!.. Только бая сделали бедняком.
— Они и наши семьи скоро смешают, как кишмиш с кунжутом.
Русские чиновники, оставшиеся на своих местах от старого режима, готовили деловые бумаги для городского Совета и продкома, русские рабочие и солдаты помогали Атабаеву поддерживать хоть какой-нибудь порядок в распределении продуктов, а неграмотные дехкане из аулов просиживали целый день на лестнице, безучастные к козой власти, голодные, изверившиеся — и творили исправно намаз в положенные часы.
В Совете шла бесконечная говорильня. Там засели меньшевики и левые эсеры, туркмены были представлены сомнительными личностями, вроде провокатора Джепбара. И трудно было вытеснить, прогнать их, потому что других людей не было. Атабаев и сам числился в левых эсерах, хотя бы для того, чтобы получать какую-нибудь информацию, знать, что происходит в стране.
Сгущались тучи над Средней Азией. Здесь, в Мерве, пока еще спокойно. А в Асхабаде контрреволюция уже создает свои боевые союзы. В Теджене Эзиз-хан собрал нукеров, в Ташаузе царит старый хивинский волк — Джунаид-хан. А на персидской границе, по ту сторону Копет-Дага уже слышны английские полковые оркестры — там неприкрыто готовятся к сражению «инглизы».
Опасно было выезжать за городскую околицу — в любую минуту мог подстеречь предательский выстрел. Но не было дела выше и важнее, чем объяснять народу задачи революции, завоевывать доверие тружеников, уводить их от векового влияния духовенства и богачей, разбивать союз «лошади и всадника»… И Атабаев снова ехал в уезд — из аула в аул. Кобура не застегнута, курок на взводе. Хорошо, если два-три городских рабочих с тобой — не так опасно и скучно скакать мимо арычных кустов за аулом.