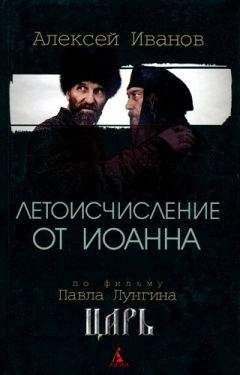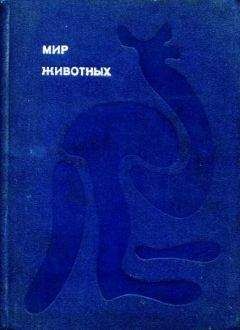Маша отвернулась и сунулась лицом в плечо Иоанна, чтобы не видеть двора и зверей за частоколом. Иоанн гладил Машу по дрожащему плечу.
— Ничего, ничего, сестрёнка, — успокаивал он. — Так им…
Колычев отвлёкся, отгоняя медведя ударами рогатины в морду, и слепой Салтыков остался один. Он нелепо махал рогатиной в пустоте, кружась на месте. Медведь мягко приблизился к нему сзади и лапой смял воеводу.
Алексей Басманов молча толкнул Ваську Грязного плечом и показал три пальца — предложил биться об заклад. Грязной сощурился на схватку и кивнул в знак согласия. Опричники быстро и незаметно хлопнули по рукам.
Колычев вытеснил медведя ближе к Бутурлину. Бросив своего зверя, Бутурлин повернулся и вогнал рогатину в бок медведю Колычева. Медведь повалился.
На гульбищах и крылечках опричники вопили, свистели, визжали.
Нащокин поскользнулся в луже крови и упал на спину. Он нелепо взмахнул рогатиной, и медведь выбил её, отшвырнув в сторону. Зверь навалился на лежащего воеводу всем весом и словно взрыл его лапами. Из-под медведя вылетела оторванная человеческая рука.
— Смотри, сына, как медведи злодеев рвут, — говорил Малюта Гаврилушке, поднимая ребёнка повыше.
Площадка, огороженная кольями, была вся вскопана ногами и лапами. Её покрывали пятна бурой грязи, куски мяса и человеческих тел. Косматыми кучами громоздились три убитых медведя. Оставались два медведя — и два человека, Бутурлин и Колычев.
Филипп оглянулся на Иоанна. Государь был в ярости. Этим израненным холопам, конечно, не справиться с двумя медведями, они сдохнут… Но они не пожелали сдохнуть сразу, положив рогатины на землю. Они сражались — сражались не с медведями, а с царской волей!
Филипп понял, что государь хотел обрушить на приговорённых нечеловеческую кару. Но потоп или огонь с небес Иоанну были не по силам. А с медведями кара вышла недостаточной. Устрашающий гнев великого государя обернулся зверством самодура в шапке Мономаха.
Бутурлин и Колычев одинаково поднимали медведей на рогатины.
Опричный дворец неистовствовал.
Маша не выдержала и снова стала глядеть на схватку.
Колычев продавил рёбра зверя и с хрустом вогнал рогатину чудищу в грудь. А медведь Бутурлина ударом лапы сломал рогатину и рухнул на воеводу.
Колычев свалил своего зверя и выдернул оружие, поворачиваясь к медведю Бутурлина — к последнему медведю. И зверь не стал рвать раздавленного врага, а двинулся на Колычева.
Филипп стоял неподвижно и медленно крестился, умоляя Господа спасти Ваньку, который, хромая, шёл навстречу медведю.
Маша как птица забилась под рукой Иоанна. Государь хотел прижать её, но Маша вырвалась и синичкой слетела по ступеням крыльца. Худенькая, она легко проскользнула между кольев ограды.
Воевода Иван Колычев, еле держась на ногах, нацеливал в грудь зверя окровавленные зубья рогатины. Раненый медведь, хрипя, встал на задние лапы.
И вдруг между человеком и зверем оказалась Маша. Она подняла перед собой икону, показала медведю и отважно закричала:
— Тебе, зверю, матушка Богородица!..
Ударом лапы медведь смахнул Машу.
Облезлая икона, сверкнув золотой искрой, перелетела частокол и брякнулась на ступень крыльца.
Маша неподвижно лежала в кровавой грязи, как платок.
Медведь упал на все четыре лапы, отвернул от Колычева и набросился на Машу.
В нерушимом беззвучии дворца, полного людей, Филипп сошёл по ступеням вниз и поднял икону.
Иоанн вскочил с кресла.
— Останься со мной! — что было сил закричал Иоанн Филиппу.
Но о чём Филипп теперь мог говорить с этим злым мальчиком?
Толпа слуг и опричников раздвигалась и кланялась, пока Филипп тихо и отрешённо, с иконой в руках, проходил вдоль частокола к открытым воротам Опричного дворца.
Филипп в одиночку шагал по улочкам Москвы к своему подворью. К груди он прижимал икону Маши. Он не замечал, что его ладонь и грудь испачканы кровью с иконы. Он не замечал, как поодаль за ним робко едет его возок.
Возница стоял во весь рост и молча размахивал руками. Так он беззвучно приказывал всем, кто шёл навстречу Филиппу, разойтись в стороны и не беспокоить владыку. Люди боязливо расступались, крестясь, а потом оглядывались. Никто никогда не видел у владыки такого страшного и напряжённого лица.
Филипп шёл мимо крылечек и поленниц, мимо часовен и виселиц, ступал по вымосткам над лужами, по торцовым мостовым. Он добрался до ворот своего подворья и застучал по доскам деревянным молотком, привязанным на верёвочку. Взгляд Филиппа случайно упал на икону. Богородица плакала.
Монах Еремей открыл владыке калитку. Филипп прошёл через двор, поднялся на крыльцо, миновал сени и горницу и вступил в свои покои. Он смотрел только на икону. Её надо было поставить в киот.
Киот митрополита был величиной с небольшой иконостас. Филипп перекрестился, поцеловал икону Маши и поглядел на свой киот. Иконы киота сверкали, словно осыпанные бисером. Это плакали все образа владыки.
Косоглазого Серафима Кошкина приняли в опричники только неделю назад. И батюшка не отпускал, и матушка плакала, и с братом он подрался — но убежал из дома и теперь жил в Опричном дворце.
Сейчас, в чёрной рясе и в клобуке, Серафим стоял на службе в Успенском соборе рядом с самим Григорием Лукьянычем Скуратовым. Григорий Лукьяныч полюбил Серафима. А рядом — рукой подать — молился и сам государь. Было ради чего гневить отца с матерью.
Служба завершалась. Все устали. Серафим, крестя лоб, незаметно с трепетом поглядывал на Иоанна. Лик у царя от трудов был серым, очи налились кровью, персты дрожали. Тяжело было государю.
Серафим поглядывал и на митрополита, но с ненавистью. Это он, злобный поп, довёл царя до печалей. Рожа у попа мужицкая, глаза волчьи, лапа — не креститься, а младенчиков душить.
Митрополит закрыл книгу на аналое.
Толпа в соборе подалась вперёд под благословение.
Первым стоял государь, за ним — Григорий Лукьяныч, и уже третьим — Серафим. А любимчики государя — Басмановы, Грязной, Плещеев, Вассиан-расстрига — уже все вслед за Серафимом.
Но поп и не подумал о государе. Отвернувшись к иконам, поп молился, а государь смиренно ждал. Была бы Серафиму воля — он бы этому попу повернул башку назад за бороду, чтобы поп увидел царя.
— Отче… — тихо и слабо позвал Иоанн.
Филипп продолжал читать молитву, словно не услышал оклик Иоанна. Народ тихонько загомонил, поняв, что Филипп готовит вызов.
— Государь перед тобою, владыка, — негромко и спокойно напомнил попу Григорий Лукьяныч.
Поп продолжал смотреть на образ Спаса.
— Не туда смотришь! — не выдержал и прошипел Серафим.
Митрополит положил на грудь последний крест и тяжело развернулся. Грубое лицо митрополита совсем окаменело.
— Не вижу я государя! — нагло объявил поп и поглядел царю в глаза. — Не могу узнать его ни в одеждах этих, ни в делах царских!
— Опомнись, Филипушка! — печально предостерёг попа государь.
Сказал бы государь — Серафим через миг рвал бы горло попу.
Но поп и ухом не повёл на предостережение.
— Все мы смертны, Иван Васильевич! — звучно, на весь храм с амвона произнёс он. — Помнить надо о суде Божьем!
Вот — лжа от попа! Сам про суд Божий говорит, а к помазаннику Божьему — одно презрение. Кто первый-то забывает о Боге?
— Не время ты выбрал напоминать! — милосердно укорил Иоанн.
— Знаю, государь, — согласился Филипп, — да боюсь, не дашь ты мне другого времени!
Серафим увидел, что государь встрепенулся, отгоняя усталость.
— Оглянись, чего ты с державой творишь? — загремел Филипп. — Все мы под твоим законом ходим, а ты и Божьего закона над собой иметь не хочешь!
Филипп и сам не ведал, откуда у него берётся такое красноречие.
— Я здесь бескровную жертву приношу, а за алтарём людская кровь рекой льётся!
Храм слушал Филиппа в ангельской тишине.
— Ты сам за грехи у Господа прощения просишь, но других и без греха казнишь!
Вся Москва знала то, о чём говорил Филипп. Знали все, кто был в храме. Но не правда была нужна. Нужен был пример служения правде словом. Нужно было само слово — как граница между светом и тьмой.
Серафим всё слышал — и ничего не понимал. Он не желал знать никаких иных слов, кроме царских. А разве должны быть чьи-то иные слова?.. Серафим хищно следил только за движениями Филиппа — за руками его, за губами. А смысл речи попа был Серафиму не важен.
Иоанн распростёр руки, показывая на опричников вокруг себя.
— Лучше, владыка, тебе заодно с нами быть, чем с боярами-изменниками! — предупредил Иоанн.
Серафиму показалось, что государь не грозит, а милостиво зовёт к себе заблудшего сына. Серафиму показалось, что государь раскинул руки, чтобы обнять своих слуг — и его в том числе. Серафим готов был прямо сейчас убить попа или умереть за государя.