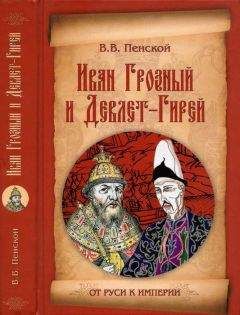С грустным вздохом он входит в передние комнаты на половину царевны. Во второй комнате он находит молодую постельницу Меласю, которая сидит за пяльцами и вышивает что-то золотом. Девушка так углубилась в свою работу, а может быть, — и это вернее — в свои думы, что и не слыхала, как вошел князь, тихо ступая по коврам своими мягкими сафьянными сапогами.
— Здравствуй, Маланьюшка! — сказал он ласково.
Девушка вздрогнула и уронила иголку.
— Здравия желаю, батюшка князь, — отвечала она мягким певучим грудным голосом.
— Я, кажись, испужал тебя, милая. Ты так задумалась за работой. О чем твои девичьи думы? О Крыме, чай, как там жилось тебе у Карадаг-мурзы?
Девушка не отвечала, а только покраснела и еще ниже нагнулась к своей работе. Князь подошел к пяльцам.
— Что это ты, девынька, вышиваешь? — спросил он. — Орарь, кажись, для иподиакона?
— Точно, орарь отцу дьякону Ивану Гавриловичу… Царевна Марфа Алексеевна указала.
Голицын лукаво улыбнулся, но потом с доброю уже улыбкою проговорил:
— А я чаял, это пояс новому боярину!
— Какому новому боярину? — спросила девушка, подняв на своего собеседника черные мягкие глаза.
— А Максиму Исаичу Сумбулову…
При этом имени девушка вспыхнула так, что даже слезы показались на ее прекрасных глазах. Она нагнулась. Слезы действительно капали на шитье.
— Ах какая ты, девынька! О чем же это, глупая? Разве это грех? Сам Спаситель повелел любить. А Максим Исаич спит и видит тебя.
В этот момент в комнату вошла Родимица. На лице ее отражались и смущение, и досада.
— Грех тебе, батюшка князь, смущать молодую девку! — с сердцем сказала она.
— Ба-ба-ба, какая строгая у нас мамушка! Уж и пошутить с девкой нельзя, — улыбнулся князь.
— Шутки шутить можно, да не такие: что девке голову набивать прелестными словами!
— Ну-ну, не буду, не буду! Положи гнев на милость. Что, государыня-царевна изволила встать? — спросил он серьезно.
— Давно, батюшка, уж и Богу отмолилась.
— Можно к ней, Федорушка?
— Тебе, князь, можно. Я уж и обрядила государыню. Она изволила выйти в стеклянную светлицу, на переходы.
Князь хорошо знал расположение коломенского дворца и скоро очутился в указанной светлице, в стеклянной галерее, выходившей окнами на пруд. Софья сидела у окна и задумчиво глядела в окно. Около ее ног терся белый сибирский кот. Она услышала знакомые шаги и быстро бросилась навстречу входившему.
— Васенька! Светик мой! Соколик!.. — И она повисла на его широкой груди, обвив руками шею своего возлюбленного.
— Здравствуй, матушка государыня.
— Какая я тебе государыня! Вот, вот!
Она прижалась своими губами к его губам, так что он не мог ничего выговорить.
— Вот еще! Вот! — продолжала она. — Скажи, кто я тебе?
— Софьюшка, свет очей моих, лебедь белая…
— Нет, нет! Выговори то словечушко, то, разумеешь? То, отчего я со стыда сгорю, а слушать бы то словечушко век слушала. Ну, выговори!
— Софьюшка! Полюбовница моя! Женушка моя!
— Да, да! Полюбовница, полюбовница… Греховное это словечушко, а такое сладкое, слаще меду!
Она отошла в сторону и с любовью посмотрела на своего Васеньку.
— Уж как ты хорош у меня! Как хорош! И бородушка с серебром, а все ж ты милее мне всех. И знаешь, светик, про что я вспомнила, глядючи в это окошко?
— Про что, моя ластушка?
— А про то, как тебя батюшка во пруде этом купал, а у меня ноженьки подломились.
— И я про то же вспоминал, как к тебе шел. А знаешь ли, государыня, я тебе чтой-то принес, — меняя тон, сказал Голицын и вынул из кармана подметное письмо.
— Что это, соколик? — спросила царевна с загадочным блеском в очах.
— Да письмо к тебе, токмо неведомо от кого, а внизу написано: вручить государыне царевне Софье Алексеевне.
— А ты его где взял?
— К воротам у тебя приклеено было ночью, вот и следы — воску остались.
Царевна взяла в руки письмо. Загадочный блеск не покидал ее серых глаз.
— А для чего оно разрезано? — спросила она.
— Ненароком, государыня, бердышом стражник ненароком задел.
Софья развернула и стала читать принесенное письмо.
— А подписи нету, письмо безыменное, — сказала она, взглянув в конец письма.
— Боятся, стало, — заметил Голицын.
«На нонешних неделях, — читала Софья, — князь Иван Хованский да сын его князь Андрей призывали они нас к себе в дом человек девять пехотного чина да пять человек посадских и говорили, чтоб помогали им доступать царства московского, и чтоб мы научили свою братию ваш царский корень известь…»
Она остановилась, широко раскрыв глаза и не то испуганно, не то вопросительно глядя на Голицына.
— Вон оно до чего дошло… до корня до самого… Ай да князь Иван!.. А ну-ну…
«… ваш царский известь корень, — продолжала она, — чтоб прийти большим собранием неожиданно в город и убить вас государей обоих, царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью Алексеевну».
— Я так и чаяла… Спасибо, князюшка, не забыл и меня сироту…
Странная ирония звучала в ее голосе: она как будто радовалась, о чем говорило письмо. Но лицо князя Голицына было спокойно и сосредоточенно: он, казалось, силился проникнуть в душу своей собеседницы и не мог.
— Так вот как, — продолжала она, — «убить царевну Софью Алексеевну, патриарха и властей, а на одной бы царевне князю Андрею жениться».
— На которой же это? — спросила она Голицына.
— Не ведаю, государыня, — отвечал тот серьезно.
— Жаль, что тут не прописано, а то б мы знали.
Но заметив сосредоточенный на ней взгляд Голицына, она быстро опустила свои глаза и стала читать дальше.
«…а остальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри, да бояр побить: Одоевских двоих, Черкасских троих, Голицыных троих»…
— Это, стало, и тебя, — как бы в скобках заметила она.
«… Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят. И как то злое дело учинят, послать смущать во все московское государство по городам и деревням, чтоб в городах посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян подучать, чтоб побили бояр своих и людей боярских. А как государство замутится, и на московское бы царство выбрали царем его, князя Ивана…» — Вот как!.. Ай да Тараруй! Каков царек — от! Царь Тараруй! А? Словно бы на царя Гороха смахивает.
Она хохотала искренно, звонко, вся раскрасневшись. Невольно рассмеялся и Голицын.
— Точно, царь Горох… Уж и ты, государыня, мастерица выдумывать. Царь Горох!
— Да это не я, мой свет Васенька, выдумала: это он сам, царь Тараруй… Токмо, друг мой, это затейка не маленькая: не в меру разлакомился, государствовать захотел… Что-то еще Бог скажет!
Она перестала смеяться и стала дочитывать письмо — «…а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые бы старые книги любили»…
— Кто бы это написал? — спрашивала она себя вслух.
Там в конце, кажись, прописано, — заметил Голицын.
— Нету, милый, в конце пишут: «А когда Господь Бог все утишит, тогда мы вам, государям, объявимся. Имен нам своих написать невозможно, а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка черная, а другого на правой ноге поперек берца рубец, посечено, а третьяго объявим мы потом, что у него примет никаких нет…» Вот и все.
Она задумалась. В это время на галерее показалась Родимица, и глаза ее, упавшие сначала на письмо, которое Софья продолжала держать в руках, быстро поднялись и встретились с глазами царевны: этим загадочным обменом взоров сказано было очень многое; но что это было, осталось тайной этих двух женщин.
17 сентября 1682 года — день именин царевны Софьи Алексеевны. День этот Софья и ее братья — государи со всем двором проводят в подмосковном селе Воздвиженском, где у них такой же загородный дворец, как и в Коломенском, только нет такого богатого пруда, как там.
Только что кончилась торжественная обедня, и именинница — царевна, принимая поздравления от бояр, окольничих и думных людей, изволит жаловать всех водкою.
— А теперь, господа бояре, — сказала она, когда кончились поздравления, — пожалуйте в Крестовую палату на очи великих государей: будет у нас сиденье о важном государском деле.
О чем это будет «сиденье», о каком важном государском деле, никто не знал, хотя иные и догадывались, что это было за дело. Всем, однако, бросилось в глаза, что на поздравлении не было ни старого князя Хованского, ни его сына, князя Андрея. Некоторые говорили, что видели его на дороге в Воздвиженское, что около села Пушкина он велел разбить себе шатер и, вероятно, отдыхает, как человек старый.
В Крестовой палате бояре увидели обоих царей уже на чертожном месте, а рядом с ними и царевну Софью Алексеевну. Юный Петр за эти месяцы, что мы не видели его, с 15 мая, казалось, значительно возмужал: во взоре его было меньше детского, он довольно сильно загорел; но кроме того, замечалось еще что-то новое в его внешности, собственно в лице: оно иногда как-то странно и, по-видимому, непроизвольно подергивалось. Это были следы тех душевных потрясений, которые вынес ребенок в дни майских кровавых оргий во дворце, когда в душу его заброшено было зерно будущего террора, чего, конечно, он и сам еще не сознавал, но что невидимо пока ни для кого созревало в глубокой недетской ненависти ко всему, что отдавало стрелечиной, стариной: за террор — террор, но только еще более ужасный… Царь же Иван по-прежнему смотрел жалким, обиженным: не родись он царевичем, сидеть бы ему у Спасских ворот с чашечкой и слезливо распевать: «Милостыньку, православные, убогенькому Христа ради»…