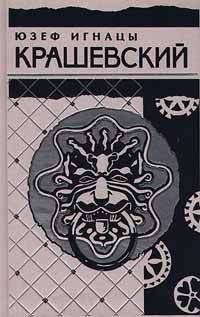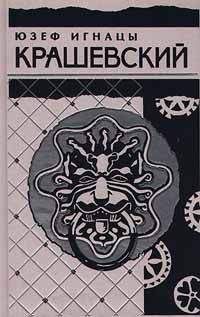Так проходили дни среди невозмутимого спокойствия, и постепенно забывалась дума о перемене, которая могла угрожать в будущем.
Но вот однажды вечером Федько, возвращаясь из местечка, подъехал к Ермоле закурить трубку, по тому случаю, что на обыкновенной дороге испортился мостик и надо было объезжать его. Не привыкнув к этому пути, пегашка было заупрямилась, — но Федьке удалось как-то сладить с нею.
Старый гончар с Родионкой сидели на пороге. Ермола курил трубку, а мальчик делал какие-то предположения о будущем, обращаясь время от времени к старику. Федько слез с повозки и прервал их беседу обычным приветствием:
— Помогай Бог!
— Здравствуйте. А откуда?
— Из Малычек.
— Ездили одни?
— Возил Никите проданный картофель.
— Что же слышно новенького?
— О, много нового, — отвечал Федько, садясь на колоду, — много нового. Ротмистр умер.
— Умер ротмистр! — подхватил Ермола… — Царство небесное покойнику!.. Довольно он помучился на свете.
— Да и другим не было от него сладко.
— Умер! — произнес грустно Ермола. — Смотрите, стариков требуют на тот свет… Как бы и о нас не вспомнили там вскоре…
— Болен был, — заметил Федько, — и то удивительно, что держался столько лет… В доме теперь настоящий страшный суд.
— А сын?
— Все, и сын, и люди, которых мучил ротмистр, все заливаются слезами. На двор1 целая толпа и вой такой, что просто ужас.
— Всем придет время умирать, — сказал Ермола со вздохом.
— Конечно, — отвечал Федько, — но сказать правду — ротмистр куда был тяжел для домашних. Ведь совсем больной, калека, а ключей не отдавал никому до смерти, не доверяя ни сыну, ни родственнице. Сын постарел, не выезжая из дому, ротмистр не позволял ему ни жениться, ни выехать даже никуда на самое короткое время. С родственницей он также обращался строго; и зная, что она слюбилась с Яном, держал их вместе, но запрещал и подумать о браке.
— Ну, теперь они, конечно, подумают о свадьбе.
— Значит, вы ничего не знаете! Они уже когда-то давно обвенчались потихоньку, но только это было тайной для всех, кроме старой ключницы. Их венчал сам ксендз-пробощ, и свидетели были. Но что же, если не могли они видеться ни минуты. И день и ночь ротмистр держал их поочередно при себе так, что или тот или другая должны были оставаться при нем постоянно. А ведь там было такое обыкновение, что все должны были доносить ротмистру, если заметили что за Яном, иначе были бы выпороты, а сыну он грозил проклятием, если бы тот смел подумать о женитьбе.
— Тяжел был старик, правда, — отозвался Ермола, — но имел и хорошие стороны… Наконец, и страдал же он! Иногда по целым ночам только и твердил: сжалься, Господи, и пошли мне смерть скорее!.. С посторонними он всегда был добр и мягок, я сам обязан ему, что Прокоп выучил меня гончарству; а как разговорится, сколько, бывало, насмеемся… Да, покойник был приятель моего пана.
Старики долго еще разговаривали о ротмистре, припоминая малейшие подробности из его жизни, но вообще, по обычаю, жалея о покойнике, потому что каждый умерший должен же оставить после себя хоть немного сожаления. Вдруг со стороны Малычек послышалось, что едет экипаж, и все тотчас признали по стуку колес — не простую повозку.
— Верно, Гудный возвращается откуда-нибудь, — сказал Ермола, — войдем в хату: лучше ему не показываться на глаза.
— О нет, — отвечал Федько, — это что-то чужое, стук словно от большого экипажа. Видно, кто-нибудь заблудился.
Все с любопытством начали посматривать на дорожку, лежавшую за дубами, и вскоре показалась трехконная бричка, приближавшаяся к деревне большою рысью.
— Кто бы это мог быть? — спросил Ермола.
— Лошади ротмистерские… А! Это пан Ян с женою из Малычек: я их знаю. Но какое же дело у них в Попельне?
Родионка тоже выглянул из любопытства. Экипаж быстро приближался и, миновав старую корчму, обитатели которой стояли на пороге, подъехал прямо к Ермолиной хате и остановился. Соскочив почти разом, мужчина, лет тридцати с небольшим, и еще молодая женщина побежали к Ермоле, но остановились за шаг от него. От волнения они не могли говорить, и только раздался крик, а потом послышались рыдания. Женщина бросилась к Родионке, мужчина также последовал за ней к мальчику, который пятился от страха.
— Сын мой! Дитя мое! — кричала пани.
— Мария! Бога ради, поговорим прежде с ними!
Взглянув блистающими глазами на мать, Родионка прильнул к Ермоле, словно требуя от него помощи и покровительства.
— Ах, он не знает меня! — воскликнула с горестью пани. — Не знает и не может знать!.. Он отталкивает меня, убегает… Иначе и быть не могло!.. О, лучше было бы отказаться от всего, вызвать на свою голову проклятие, а не покидать ребенка. Мы потеряли его навсегда!
— Мария, успокойся!
В продолжение этой сцены Ермола имел время придти в себя; лицо его приняло грустное, но серьезное выражение.
— Мальчик этот, дитя, которое нашел ты под дубами, — отнесся к нему пан Ян дрожащим и прерывающимся голосом, — это сын наш. Мы избегали проклятия, которым грозил отец, боялись шпионства слуг и вынуждены были отказаться от него… позабыть его на время. Ксендз, который венчал нас и крестил это дитя, может это засвидетельствовать, и человек, который привез его сюда…
— Очень мог он быть вашим сыном, — прервал медленно старик, собравшись с силами в решительную минуту, но теперь — это мой сын. Видите ли, он не узнает матери, перед родным отцом прижимается ко мне. Я выкормил его, отнимая у себя хлеб, воспитал его трудами старых рук своих. Никто не может отнять его у меня… Да и сам Родионка меня не покинет.
Пани рыдала; на лице у пана выступила краска и виднелись противоречивые чувства.
— Ради Бога, старик! — сказал он. — По воле или по неволе, а ты должен будешь отдать нам дитя, встречи с которым мы ожидали так долго.
— Если бы я и отдал, то мальчик не пошел бы за вами! Он вас не знает и не покинет старика, который вскормил и воспитал его.
Родионка стоял бледный и смущенный. Мать протягивала к нему руки, глаза ее говорили так много, уста призывали, и привлекала таинственная сила материнского чувства. У мальчика на глазах начали появляться слезы.
— Возьми, что хочешь за нашего сына! — воскликнул Ян.
— А что же я могу от вас желать? — сказал с досадою Ермола. — Чем же вы можете заплатить мне за милое дитя мое? Ничего не требую, только позвольте мне умереть при нем спокойно.
И, проговорив это, старик расплакался, ноги под ним задрожали, он начал искать руками стены, чтобы опереться. Родионка поддержал его и усадил на пороге, а старик обнял и поцеловал мальчика в голову. Пани ломала руки с отчаяния, чувство душило ее; наконец, она, как львица, бросилась к Родионке и заключила его в материнские объятия.
— Ты мой! — закричала она, заливаясь слезами. — Ты мой!
Но и Родионка уже не вырывался из ее объятий; это был для него первый в жизни материнский поцелуй, такой желанный, сладкий и успокоительный! Дрожащий отец подошел также, прижался к сыну и начал целовать его со слезами.
Ермола смотрел на это с пробивавшеюся сквозь слезы завистью: одна минута, одно слово должны были отнять у него сокровище.
— Довольно было счастья, — сказал он, — теперь Бог отбирает его у меня… Надо его отдать, потому что судьба только давала мне его взаймы… А жить ведь мне недолго! Пан, — сказал он Дружине голосом, полным мольбы и грусти, — видите, я уже вас прошу теперь! Я стар, проживу немного: оставьте мне мое дитя до смерти… Я умру скоро, ведь я очень стар… Возьмите его после от моего гроба… Как же я могу прожить без него? Не делайте меня несчастного сиротою под конец моей жизни; не отравляйте мне последних дней за то, что я выкормил и вынянчил вашего сына!
— Мы тебя возьмем вместе с ним, — сказал Ян. — Поезжай с нами: мы обязаны тебе живейшей благодарностью.
Старик начал плакать, а Родионка, услышав его рыдания, подошел к нему и, встав перед ним на колени, прижался к его груди головою.
— Тятя! Тятя! — сказал он. — Не плачьте, прошу вас: я никуда ни за что не пойду от вас. Мы останемся в своей старой хате, мне здесь так хорошо было с вами… Я ничего не хочу больше.
При этих словах мать снова начала рыдать, ломая руки с отчаяния; люди, собравшиеся смотреть на эту сцену, казачиха, Федько, Гулюк, плакали также неизъяснимыми слезами, которые найдутся у нашего народа даже и для страданий, ему неизвестных: чтобы расчувствоваться, довольно ему видеть плачущего.
Оправившись несколько от волнения, Ян вздохнул и начал что-то говорить жене на ухо.
— Хочешь, не хочешь, — сказал он старику несколько суровым голосом, — а вынужден будешь отдать нам мальчика: есть свидетели и доказательство, что это наш сын. Можешь требовать за него, что угодно.
Ермола быстро поднялся на ноги.