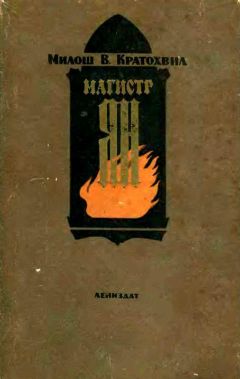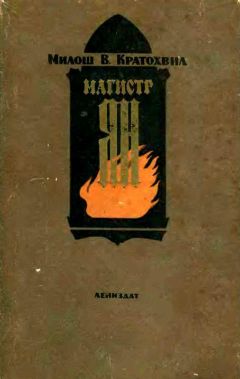Мартин не замечал гнетущей тишины, от которой цепенели люди, стоявшие на площади, — его окружал иной мир, мир голосов, ликования и радости. Он выпрямился, и его лицо озарилось веселой улыбкой. Палачи, заметив эту улыбку, даже опустили руки. Она вызвала у них смятение и ужас. Несколько латников набросились на парня. Они закололи его раньше, чем палач успел отрубить голову.
Всё произошло так быстро, что никто не успел опомниться. Только некоторое время спустя люди подняли над головами кулаки и закричали. Волнение усилилось, когда стражники стали протискиваться вперед. Камни полетели в них один за другим и начали ударяться о шлемы, латы и древки алебард. Стражники собрались вместе и попятились к ратуше. Задние ряды двигались боком, выставив алебарды против толпы. Это отступление походило на бегство.
Тела трех друзей остались лежать на небольшой круглой площади, две головы валялись в кровавой луже. Прохожие не могли оторвать глаз от ужасного зрелища. Казалось, время остановилось, чтобы запечатлеть это мгновение в глубине души каждого человека.
Оцепенение прошло лишь тогда, когда зарыдали женщины. Их слёзы вызвали глубокую скорбь. Люди начали расступаться, освобождая дорогу Йоганке.
Высокая и прямая, она шла к телам, лежавшим на мостовой. Движения девушки утратили гибкость, — горе сковывало ее члены, мешая ступать легко и свободно.
Смертельно бледная, Йоганка остановилась перед обезглавленными телами, широко раскрыв глаза. Подобно Йоганке, люди не могли оторвать глаз от жертв кровавой расправы. Юноши пробудили любовь людей. Кровь невинных оросила почву, на ней взойдут семена вечного гнева.
Йоганка пристально смотрела на спокойное и светлое лицо Мартина. Казалось, ее любимый только что заснул. Любовь смотрела на смерть и не видела в ней ничего, кроме любви, — только любовь, любовь без смерти, без предела и без забвения. Такая любовь неразрывно связана с жизнью, двуедина — если погибает один из любящих, она продолжает жить в другом, сохраняя всё и ничего не утрачивая.
Пусть никого не пугают слёзы Йоганки, — ведь любовь и жизнь победили смерть!..
Возле Йоганки, опустившейся на колени и прижавшейся лицом к голове возлюбленного, собрались женщины. Они сняли со своих голов платки и прикрыли ими тела юношей.
Мужчины обнажили головы.
Края савана из белых платков обагрились кровью.
* * *
К Вифлеемской часовне двигалась многолюдная процессия. Впереди шагал магистр Иероним с Якоубеком из Стршибра и Яном Жижкой по бокам. За ними шла большая группа студентов-певчих. Поденщики и подмастерья несли тела трех юношей, покрытые саванами. За носилками тянулась бесконечная толпа мужчин и женщин, — среди них были подмастерья, ремесленники, батраки, мещане, студенты и женщины с детьми.
Процессия медленно двигалась мимо опустевших домов, люди мерно шагали по мостовой, бесконечный поток людей неудержимо стремился вперед. На улицах не было ни одного королевского стражника.
Иероним запел сильным и чистым голосом:
— Isti sunt sancti…[36]
Громкое пение магистра, подобно грозному и торжественному звону колокола, неслось над толпой. Магистра поддержал хор студентов, — песня полетела дальше, пока ее не подхватила вся толпа. Ее пение звучало как гимн.
В это время Гус находился в часовне. Проповедник Вифлеема стоял перед алтарем и ожидал тех, кто остался преданным магистру до последнего дыхания. Взглянув на портал, он увидел людей.
Иероним со своими друзьями и студентами-певчими расступились шпалерами и предоставили право подмастерьям-мученикам первыми войти под крышу Вифлеема.
Йира и его товарищи прошли с носилками вперед. Словно опасаясь разбудить мучеников, они осторожно сняли носилки с плеч и положили их на свободное место перед алтарем.
Трое носилок с белыми саванами… Широкий, могучий поток залил сейчас всю часовню и площадь, принес жертвы к ногам Гуса; так река колышет на своих волнах белые розы, чтобы потом прибить их к берегу.
Гус глядел на скромные катафалки, — под полотняными саванами вырисовывались очертания молодых тел, еще недавно полных сил и радости.
— Дети мои… — с болью и скорбью шептал Гус. — Вы не пожалели живота своего, борясь за правду Христову и возлюбив бога; милостью своей он дарует вам вечную жизнь. Я говорил вам и о добре и о зле. Вы воплотили мои слова в подвиг. Этот подвиг оказался для вас гибельным.
Голос Гуса постепенно креп и наконец зазвучал в полную силу:
— Эти юноши первыми пали за божью правду. Они — наши первые мученики! А мы стоим сегодня перед ними, как перед своими судьями. Они спрашивают нас: «Неужели мы погибли напрасно?» Что мы ответим им?
В глазах Гуса исчезла скорбь, он воодушевился:
— Мы в ответе за телесную смерть вашу и за наследство ваше. Вы завещали нам свою веру, свою любовь к правде, свою борьбу. Мы принимаем ваше наследство — оно укрепит наши силы. С этими силами мы будем стоять за правду божию без страха, не щадя сил.
Во времена великого упадка божья правда редкостна, как алмаз. Тот, кто служит ей, подобен человеку, несущему золотой сосуд через лес, кишащий разбойниками. Каждый, кто будет исполнять заповеди божьи, обречен на лишения, мучения и гонения. Ибо сталь в огне закаляется, а дерево сгорает. То же пишется и в Евангелии: «И будут предавать вас родители, братья, друзья, а некоторые из них даже убивать вас. И возненавидят вас за имя мое». Ибо настанет время, о котором господь сказал: «Не мир, но меч я несу вам!»
Голос Гуса гремел под сводами часовни подобно раскатам грома. Вырвавшись на площадь, он потрясал небо и землю.
Посередине рыцарской комнаты замка Жебрак, в кресле-носилках лежал больной король Вацлав. Казалось, что кресло безжалостно сжимало короля своими незримыми тисками: он побледнел, осунулся, тяжело дышал и то и дело хватался рукой за сердце. Ночью Вацлава мучили кошмары, а днем одолевала страшная духота: он то покрывался холодным пóтом, то сгорал от жары.
Король провел в таких муках немало ночей, — каждая из них походила на предыдущую тем, что могла оказаться последней. Временами Вацлав даже чувствовал, как смерть приближалась к нему, — отогнать ее он не мог. Только на рассвете, когда ночная мгла рассеивалась, король обретал душевный покой. Тогда ему казалось, что он здоров и полон сил, как никогда прежде, — так он чувствовал себя неделю, месяц и более. Но недуги рано или поздно давали о себе знать, и король уже не верил в свое выздоровление.
По мере того, как убывали силы короля, угасал и его дух. Еле придя в себя после очередного изнурительного приступа, Вацлав возвращался к печальным делам, от которых его могла избавить только смерть. Тяжелые недуги не только подорвали силы короля, но и безжалостно обнажили прежние неудачи. Жизнь посмеялась над смелыми планами Вацлава, рассеяла его сладкие мечты.
Собственно, он уже не император, — надменные курфюрсты, князья и города сбросили его с императорского трона, как норовистый конь мальчишку. Корона императора еще находится у Вацлава, но хозяйничает в империи его братец Сигизмунд, который играет с ним как кошка с мышью. Когда Сигизмунд захотел убрать Вацлава со своей дороги, он похитил его и упрятал под замок. Сигизмунд освободил Вацлава за большой выкуп. У Вацлава не осталось ничего, кроме титулов. Вацлава называют повелителем чешских земель, а его рукой водят то благочестивые прелаты, диктующие ему волю Рима, то благородные и вельможные паны, чьи богатства далеко превосходят убогие доходы короля, то богатые купцы и ростовщики — постоянные королевские кредиторы. Все они держат короля на золотой цепочке и не позволяют опереться на тех, кто никогда не изменял ему, — на рыцарей и земанов.[37] Друзей у него остается всё меньше и меньше, — противники Вацлава убивают их. Когда же он совершил промах? Где начало бесконечной вереницы неудач и огорчений? Кто виноват во всем этом, — неужели только он, Вацлав?
«И да, и нет, — покачивая головой, думал король. — И да, и нет». А ведь у него было много добрых намерений! Он горячо любил свою страну. Может быть, он недостаточно любил людей?
Нет, причина была не в этом.
Он сравнивал свои дела с деяниями отца и думал, как поступил бы тот на его месте. Владений у отца — императора Карла — было меньше, а отец был моложе, когда надел чешскую корону. В то время Чехию разрывали на части хищные руки кровожадных панов, — богатыри в латах набросились на слабого, юного принца. Города и шляхта уже тогда грызлись между собой, надменно вели себя курфюрсты. А церковь?.. Разве реформаторы не портили кровь императору? То ли Милич из Кромержижа, то ли Матей из Янова, — Вацлав уже не помнит, кто именно, — обрушился на отца-императора и в одной из своих проповедей назвал антихристом.