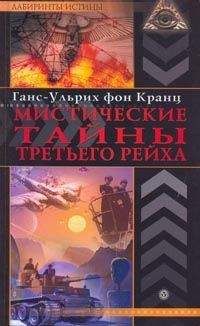— Нет, этого не скажешь. Что господин барон прикажет, то он и делает.
— В последнее время, мне казалось, больше приказывала молодая баронесса?
— Да. Сам господин барон был хворый.
— А ты знаешь, что господин барон только что умер?
— Да, слыхали об этом. Хороший господин был.
— А не слыхали, как теперь будет дальше? Кто будет вместо барона Геттлинга?
— Господин барон Этлинь был хорошим барином, потому как в других местах есть еще хуже. Кто-нибудь да будет. Именье без хозяина не останется. Этого никогда не было и не будет.
— Ну, а если придут шведы и возьмут Атрадзен в казну? Разве в вашей волости не ждут этого? Разве под казной все же не лучше, чем под бароном или его дочерью?
— Кто свою барщину исполняет, тому нигде худо не будет.
Курт поднялся и возбужденно принялся прохаживаться по вытоптанной траве. Проклятый народец! — разве Эйнгорн не был все же прав? Ну, что ты выпытаешь у этакого задымленного мужика? Ведь говорит он одно, а думает совсем другое! Курт остановился и впился в него взглядом — обжигальщик вновь отодвинулся назад. Словно черную личину надел. Лучше бы того, белобрысого, который масло ест, расспросить, а не этого, вон до чего у печи опаленного, задубевшего…
Так как барин долгое время молчал, обжигальщик принялся подбрасывать в печь поленья. Бросал он так ловко, что поленья одно за другим пролетали сквозь завесу пламени и исчезали где-то, словно в бездонной пропасти. Ряднинная рубаха вся в лохмотьях, коричневые мускулистые локти вылезли наружу. Разве это не картина из шестого круга «Divina Commedia»[10]? Курт хотел еще что-то спросить, но только махнул рукой и пошел прочь.
На проходившей по просеке дороге послеполуденное солнце припекало еще сильнее, чем вчера. Орошенная за ночь листва, серые и зеленоватые стволы, заросли таволги и бодяги источали удушающий запах сырости. Голова кружилась, поневоле пришлось открыть рот и вздохнуть полной грудью.
Курт остановился и вгляделся в узкую, наполовину уже заросшую просеку, которая шла в обратную сторону, поднимаясь в гору, пока ее совсем не скрывала темная зелень елей и желтоватые и коричневатые сплетения лиственных деревьев. В гору… Он свернул туда.
Это было необычное место. Внизу вдоль дороги сухо, все устлано гравием, усеяно мелкими обломками известняка, по обе стороны заросли белой ольхи, осинника, мелких сосенок и других, обычно растущих на песках деревьев. Но на ровном пологом взгорье мочажинник и топь с обычными болотными кустами и таволгой. Тропинка извивалась между болотными кочками, — казалось, по ней если кто ходит, так лишь одни козули к известному им одним водопою.
Подъем пошел круче, и стало суше. Огромные заросли орешника наверху свились в купы, седые корявые стволы у комля толщиной в добрую оглоблю, прямые, ровные отростки вокруг них пышными пучками, словно тростник, тянулись кверху из сочного непролазного папоротникового ковра. Редкие старые ели в два обхвата вздымались подобно башням; только запрокинув голову, можно увидеть их вершины с гладкими, еще не успевшими пожелтеть молодыми шишками. Серые дятлы посвистывали в старых вязах, ясени срослись целыми густыми островками, у берез почерневшая бугристая кора. Местами стоит белополосая молодь, которую глушат широко раскинутые веером ветви кленов.
Курт шел затаив дыхание. Маленьким и ничтожным чувствовал он себя среди этих лесных великанов и среди этой девственной чащи с ее обитателями и скрытой жизнью. Старые коряги, поросшие зеленовато-желтым мхом, лежали, вытянув ободранные сучья, будто голые ребра погибших сказочных животных. Молодая поросль равнодушно перекидывала через них живучие корни, непреклонно стремясь обрести надежную опору, а верхушками выискивая те крохотные проблески солнца, что ей еще оставляли угрюмые исполины.
Сквозь чащу мелькнуло что-то серое. Курт вспомнил: ведь это же то самое озеро на взгорье, которое когда-то давало воду для Атрадзена. В детстве он много слышал о нем. Навстречу повеяло характерным запахом стоячей воды, аира и тины. Эта сторона топкая, но тропинка расширялась и огибала холм со стороны излучины. Под разлапистой липой замшелая каменная скамья с поручнями по краям. Курт снял шляпу и сел.
Берег здесь довольно обрывистый, черная вода казалась глубокой и прохладной. Неподалеку извилистая лощинка, совсем пересохшая, но веснами по ней из дальних ольшаников в глубине атрадзенских лесов талая вода стекает в озеро. Величиной в три-четыре пурных места, оно полумесяцем охватывает холм и пропадает где-то на востоке в зарослях молоди и тростника. По ту сторону озеро медленно, но неотвратимо начало зарастать. Побеги лозняка захватывают илистое дно все дальше, осенью ветер засыпает листвой, сорванными ветками и обломанным сухим тростником; потерявший за лето запах, замерзший аир погружает туда сухие свои клинки — лес не хочет терпеть это пустое место, словно открытую рану на своем зеленом теле.
Недалеко от обрывистого берега из воды высовывалось что-то похожее на морду огромного чудища. Это погрузилась кормою в тину когда-то крашенная в зеленый цвет лодка, — кажется, надпись еще можно различить. Может, на ней было какое-нибудь звучное название, может, даже герб Геттлингов: лифляндские дворяне временами до смешного кичатся геральдическими знаками. Наверное, когда-то здесь катались, может быть, даже и выпивали — вон в траве еще сохранились угли от давнишнего костра.
Покрякивая, из лозняка выплыла утка с пятью птенцами. Сама впереди, выводок рядком позади — плывут, видно, к узкому заливу озера. Мать, наверно, обучала детей необходимому для них искусству: кидалась головой в воду и выныривала поодаль, малыши пытались точь-в-точь повторить это. Временами только шесть расширяющихся кругов рябят на освещенной солнцем зеркальной воде, затем легкий всплеск, и все семейство вновь на поверхности. Да, им это искусство дается легко, ими руководит тысячелетний навык и непреодолимый инстинкт жизни. Никаких сомнений, разногласий и ссор, ни малейших раздумий: а нельзя ли поступить еще и этак, может, лучше, может, хуже…
Вдруг они взмыли в воздух и в мгновение ока, словно шесть черных камней, упали в тростник. Что-то с той стороны приближалось к воде. Хлюпал ил, Трещали ветки, — сначала из кустов высунулась точеная морда, затем вся голова с ветвистыми рогами и большими ушами. Трепетно вздрагивающие ноздри понюхали воздух, и вперед выступил большой голубовато-серебристый олень с белым подбрюшьем. Он напился у самого берега, подумал, потом забрел поглубже, верно, чтобы освежиться. Стройные ноги его провалились сначала по суставы, затем в воду погрузился весь живот по бока. Стараясь держать ноздри на поверхности, олень вскинул голову так, что рога легли на спину. Движения быстрые и ловкие, верно, еще предки его здесь бывали, так же освежались и вымеряли глубину озера. Внезапно он насторожился, застыл и повернул голову в сторону пригорка. Вздрагивающие ноздри почуяли вблизи человека, самого страшного из всех хищников. Высоко взметнулись вода и грязь, одним прыжком животное очутилось на берегу и исчезло в лесу, лишь с минуту забрызганные ветки качались в том месте.
Курт вновь остался один со своими невеселыми мыслями. Его как-то подавляла негостеприимная величавая отчужденность лесов его родины с их столь многозвучным говором. «Пришелец, пришелец», — шелестел лес. Да и сам он это твердил, и те, ради кого он оказался здесь. Как потонувшее чудовище, виднелась погрузившаяся в воду лодка. Где же те времена, когда она, выкрашенная в нежный цвет, с гербом рода Геттлингов на носу, скользила по глади озера, неся на себе какую-нибудь высокородную пару влюбленных, исполненных гордых надежд?.. На берегу пылал костер, отбрасывая трепетное отражение на гладкую поверхность, поблескивая на зелени листвы и кидая на воду черную тень от стволов деревьев. С легко подымаемых весел скатывались сверкающие капли, отражаясь в мечтательных глазах молодой пары. А на берегу, на этой самой каменной скамье, сидели седовласые отцы с кубками в руках и пели… Может, песню, сочиненную каким-нибудь древним трубадурам о рыцарях Круглого Стола, может, одну из песен гейдельбергских студентов или тирольский любовный романс. Да мало ля он их сам слышал здесь в детстве!.. Разве Лифляндские леса отвечали эхом этим песням с юга Прованса, из долины Неккара или Альп? Чужие звуки и чужие певцы… «Чужеземцы в своей стране…» Как эта самая полузатонувшая лодка, вместе с которой гниет имя какой-нибудь Брунгильды или герб рода Геттлингов…
Что за трагическая судьба! Сколько чужой и своей крови целые поколения прославленных рыцарей пролили за эту землю! И что они ей в конце концов даровали? Христианскую веру — да. Католическую церковь, а затем протестантство, священников, которые сами понимают лишь половину того, о чем проповедуют в церкви, и никак не могут проникнуть в душу мужиков е ее старыми верованиями и ересями. Каток, чтобы землю утрамбовать, туески с творогом и конопляным семенем, остистый хлеб, который застревает в горле. А сами что обрели? Польских и шведских владык, затаенную злобу в народе, недоверие, может быть, даже предательство. Разве у лифляндских дворян есть хоть одна песня, которая родилась бы именно здесь, которая передавала бы шум этого леса и красоту этой озерной глади? Разве им что-нибудь говорит болтливый лепет этой осины или же пятнистая белизна берез?.. Пришельцы, перекати-поле со своим Тиролем и Гейдельбергом, ветром судьбы занесенное сюда чужое семя, которое так и не смогло пустить корни на этой земле…