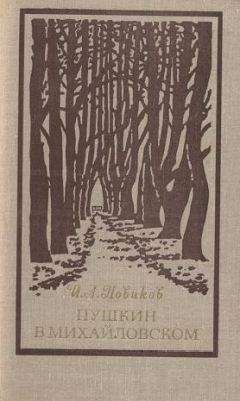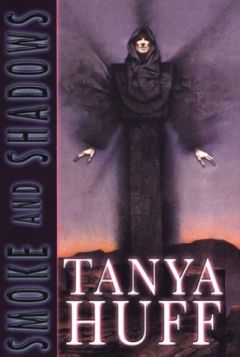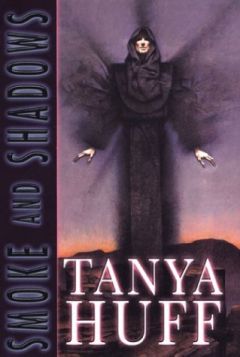Ознакомительная версия.
Волнение Пушкина все возрастало, и, чтобы дать ему выход, он встал и присел к столу. Несвязные, но напряженные строки выливались из-под его пера, в них повторялись одни и те же слова, настойчиво стучавшие в горячем мозгу. «Дитя, я не скажу причины» — «Я не скажу тебе причины» — «причины», и снова: «Я не скажу тебе причины» «Ты равнодушно обо мне» — «Клевета — опишет» — «Враги мои — черты мои — тебе» — «Мой тайный клеветник» — «И клевета неверно — чертами неверн. образ мой опишет».
Да, эти тайные причины незыблемы. Он даже не смеет ее благословить как отец:
Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья…
И нельзя рассказать даже и самой причины, почему он не смеет это сделать, оставляя на полную волю все клевете и врагам… Что же тогда остается себе? Только разлука навеки. «Прощай, о милое дитя!»
Это были уже не стихи, это был как бы крик в далекое будущее.
Он ей ответит, но и письмо его будет, конечно, уничтожено ею, как и она просит его уничтожить это признание.
Ночь. И давно ли он так писал «Прозерпину»? А это, конечно, никак не стихи. Это как извержение лавы из непотухшего кратера. И когда что-то стало наконец выходить более внятное, это отнюдь не было тем, что требовало своего воплощения, и Пушкин далеко отбросил перо.
Но он сидел еще так, в длинной рубашке, с ногами, кое-как всунутыми в мягкие туфли, подаренные ему няней. Один, впрочем, раз он потянулся к перу, чтобы изменить свой заголовок: «Ребенку». Ребенка еще не существовало на свете, пока лишь «взыгрался младенец во чреве ее»… Так он и поправил.
И полчаса эти были как очная ставка с собою самим, и были они тем напряженней, что протекали в полном молчании, глубоком, как ночь.
Наутро он кончил «Цыган», помянув и их «мучительные сны».
Когда-то в ранней юности, воспевая вдохновение, он писал: «В мечтах все радости земные! // Судьбы всемощнее поэт». Теперь была минута иная, пора и обстоятельства иные. И были последние строки поэмы как вздох из Корана — вздох над собою самим:
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Клонил к концу и октябрь. Ночи уже холодны, но в доме еще не топили. Всюду кругом дремлют леса: дров не запасали. Кроме того, печи дымили и в прошлую зиму, но печники не показывались, с ними тянули. Старшие Пушкины терпеть не могли, чтобы при них в доме работали: глина и грязь, запах мужицкой овчины… Да скоро ведь и в Петербург!
Осень вступала во все права. Аист, живший при доме, давно улетел. Домашняя птица ходила у служб нахохленная, вялая, и сам важный индюк слинял, посерел. На дворе в высоких просторных корытах целыми днями рубили капусту, и мальчишки с азартом хряпали холодные кочерыжки; сечки сверкали в проворных руках подобно секирам. В парке при быстрой ходьбе щелкали под ногами спелые желуди. Сквозь поредевшую чащу, как приближаешься к дому, издали виден кухонный дым, высоким столбом разрезающий воздух. Долгие звуки были хрустальны и медленны, они пролетали над озером, как неспешные птицы. Небо неярко, задумчиво, по задумчивость эта — явно о снеге.
Пушкин еще не был одет, когда Лев к нему постучал. В последние дни его к брату тянуло особенно: скоро отъезд!
На рождестве непременно приеду, — каждый раз он твердил, как бы сам себя в том убеждая.
Он скучал уже по Петербургу, по светлым гостиным, по болтовне и декламации стихов Александра, причем принимал все восторги и восклицания, как если бы сам написал эти стихи. Но он не мог не видеть, как томился здесь брат, становившийся день ото дня все более раздражительным. Он не знал всех причин его тайных тревог, но помнил, что и сам перед братом был не без греха.
— И о перстне не беспокойся, — промолвил он вдруг виновато. — Я сам привезу или с Михайлой пришлю, если ты не боишься.
— Я боюсь одного: как бы разбойники на тебя не напали и не ограбили, — смеясь, отвечал Александр, кончая свой туалет.
— А что же разбойники, на то есть полиция. Видишь, за нею недалеко и ходить. Да вон там, за окном.
Александр поглядел и увидел верхового с сумкой, подымавшего в стремя сапог.
— Зачем это он приезжал?
— Не знаю… Бумагу какую-то батюшке под расписку вручил.
Лев начал вдруг мямлить. Было заметно, однако, что он уже знает, кого та бумага касалась.
— Ну, говори: обо мне?
Левушке было приказано, чтобы молчал, и он только кивнул головой утвердительно.
— Требуют сведений о поведении? — резко спросил Александр. — О переписке?
Лев было снова замялся, но уже по лицу его Пушкин уверился, что точно, догадка его была справедлива. Он медлить не стал. Пора наконец иметь объяснение. Этого требует честь.
И, отстранив рукой брата, пытавшегося его удержать, он направился прямо к отцу; все же и Лев вошел за ним следом. Ссора была неминуема, но разыгралась она, однако, не сразу.
Отец сидел у стола в теплом халате, вытянув ноги и склонясь над какой-то бумагой, которую тотчас и прикрыл узкой худою рукой. Он обернулся на скрип и недовольно поглядел на вошедших.
— Я занят, — сухо сказал он, не отнимая руки от бумаги. — Что за манера входить безо всякого дела?
— Я думаю, сын может войти к отцу и без доклада, — ответил, сдерживаясь, Александр. — И к тому же у меня самого важное дело касательно вас. Прошу у вас позволения объясниться нам наконец откровенно.
— В чем объясняться? — вскипел Сергей Львович. — Какие у нас могут быть объяснения? Я понимаю, если бы, движимый чувством раскаяния, ты пришел склонить предо мной повинную голову, я отложил бы дела, потому что я — настоящий отец. А ты хоть мой сын по рождению, но…
Тут он взглянул на старшего сына и замолчал, заметив, как тот побледнел. Левушка был в стороне, видимо, также волнуясь, страдая.
— Что ж, продолжайте, — все еще сдержанно сказал Александр.
Тогда Сергей Львович, и для себя неожиданно, резко вскочил и мелко затопал ногами. Голос его, как па скрипке, внезапно взвился па такие высоты, что походил скорее на визг.
— Я прошу тебя выйти, оставить меня! Я не хочу с тобой говорить! Я не могу тебя видеть!
Пушкин сжал зубы, бледность его еще возросла. Что-то хотел он промолвить, по губы его лишь беззвучно зашевелились. Он было сделал стремительный шаг по направлению к отцу, но сразу вдруг круто повернул назад и выбежал вон. Лев хотел было последовать за ним, но отец, задыхаясь, приказал ему остаться. Молчание воцарилось в комнате.
Левушка сел. Отдышавшись, сел и отец.
— Сядь!
— Я давно хотел сказать тебе… Я тебе запрещаю общаться с этим чудовищем! Это ужасно: быть отцом сына, лишенного человеческих чувств… Да, да… это истинный выродок! Я это теперь себе уяснил.
Александр ничего этого не слыхал. Прямо с крыльца он побежал на конюшню и едва мог дождаться, пока Никита оседлает ему лошадь. Это было всегдашнею привилегией старого дядьки. Ему предстояло также уехать со старшими Пушкиными в Петербург, и он отчасти грустил о минувших днях совместного их бытия с Александром Сергеевичем. Любил он порою и поболтать, тряхнуть стариной, но сейчас не позволил себе промолвить ни единого слова. Барин был в гневе, а под горячую руку ему не попадайся!
Пушкин тотчас поскакал прямиком по аллее и, через лес, на дорогу в поле. Конь был горяч, и волнение седока мгновенно ему передалось. Это была то безумная скачка, то, сдержанный крепким рывком, конь выступал медленным шагом, высоко поднимая передние ноги, все еще как бы сам на себя набегая. Движенье всегда приводило в себя. Пушкин овладевал постепенно своею неразрешавшейся бурей. Но где же исход? Объяснение их так и не состоялось. Он может, пожалуй, не говорить и совсем, но тогда надо бросить свой дом и уехать… Куда? Он был привязан. Переселиться в Тригорское? Но и без того пропадает там целыми днями. Просить по начальству, чтобы ему назначили новую ссылку? Куда же, однако? Ах, не все ли равно!
Утомив и коня и себя двухчасовою ездой и возвращаясь медленным шагом, он вдруг заметил Ольгу и Льва. Они шли впереди — также к дому. Сочетание это было не очень привычно. Брат и сестра, конечно, любили друг друга, но никакой, даже простой искренней нежности в чувстве их не было. На этот же раз гуляли вдвоем, и разговор был горяч.
Пушкин услышал только одно: как, для себя необычно, Ольга воскликнула:
— Он не должен был так говорить про Александра, и ты не должен был позволять ему этого!
Ясно, что речь об отце. Милая Ольга…
Ольга была за него…
И, подскакав, на ходу соскочив, он крепко обнял за шею сестру и поцеловал ее в щеку. Это была горячая ласка, и Ольга зарделась.
— На Льва не сердись. Я за себя сумею ответить и сам.
Сергей Львович, как оказалось, выдержал младшего сына около часа, читая ему нотации самого высокого стиля и не скупясь на самые резкие выражения по адресу Александра. Ольга не скрыла их в своей передаче; когда бывала взволнована, она ничего не могла утаить. Лев себя чувствовал скверно. Он так не хотел столкновения! Он искоса взглядывал на старшего брата и никак не мог предугадать, что же произойдет; по виду, однако, был Александр сдержан, спокоен.
Ознакомительная версия.