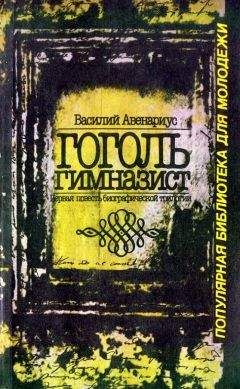Растроганный воспоминанием о рассказанном им сейчас достопамятном случае, старый вельможа отер себе рукой глаза. На мгновение за столом воцарилось почтительное молчание; вслед затем все кругом заговорило еще оживленнее прежнего.
— Но по кончине Великой Екатерины, вы, кажется, точно также не были забываемы царскими милостями? — заметил Репнин.
— Даже безмерно, не по заслугам, не по заслугам-с, — с горделивой скромностью отозвался маститый сановник. — Блаженной памяти император Павел Петрович соизволил отписать мне в Воронежской губернии не много, не мало — тридцать тысяч десятин и при оных две тысячи душ одного мужского пола. Трезоров неодушевленных и одушевленных на бренный век наш хватит! — заключил старик с самодовольной улыбкой; но тотчас, приняв опять серьезный вид, прибавил как бы с некоторой горечью: — Сии последние знаки высочайшей признательности дороги мне, конечно, не столько по их вещественной ценности, сколько ради личного еще в ту пору ко мне монаршего благоволения и ласки.
— Простите, Дмитрий Прокофьевич, — возразил Репнин, — но ведь и ныне благополучно царствующий государь император наш Александр Павлович жалует вас: вы уже отдыхали здесь, в Кибинцах, от государственных трудов, когда его величество призвал вас обратно в Петербург на ответственный пост министра юстиции.
— Призвал, точно; но ненадолго, ненадолго…
Из груди старика вырвался тяжелый вздох.
— Потому что здоровье ваше было уже сильно потрясено, — старался поддержать его Репнин, — оба лейб-медика — Крейтер и Роджерсон — требовали ведь совершенного удаления вашего от дел.
— Оба лейб-медика? М-да. А кто стоял позади них? Возвышенный прежде всех «мужичок везде и нигде», коему был неудобен министр, один из всех не ездивший к нему с реверансами. Его величество однако, грех сказать, до последнего дня не лишал меня своего благоприятства и уволил верноподданного раба своего в чистую при самом милостивом рескрипте… Господа! — возгласил Трощинский, вставая с приподнятым в руке бокалом, — да здравствует всемилостивейший государь император наш и весь августейший дом его — ура!
Единодушное «ура!» прокатилось с обоих концов стола, бокалы зазвенели, оркестр на хорах грянул громкий туш.
— Кого это он разумел под «мужичком везде и нигде»? — тихонько спросил Гоголя Данилевский.
— А, понятно, Аракчеева; неужели ты не догадался? — отвечал Гоголь, не раз уже слышавший от Дмитрия Прокофьевича эту оригинальную кличку, данную им своему могущественному и ненавистному недругу.
Глава четырнадцатая
За бортом
Благодаря массе разнообразных блюд и тостов, обед длился добрых два часа, и Гоголь сидел как на иголках. Наконец-то хозяин подал знак, отодвинувшись со стулом, и все кругом приподнялось. Никоша был уже около отца.
— А что, папенька, не пора ли нам гримироваться?
— Эк загорелось! — отозвался тот и потрепал нетерпеливца по голове. — Старику-амфитриону нашему надо еще вздремнуть часок, да и из гостей многие не прочь сделать то же после столь обильных явств и питий. А вот роль свою тебе, точно, не мешало бы еще подзубрить. Ох, уж этот мне Павел Степанович!
— На мой-то счет не беспокойтесь, папенька: знаю назубок.
Но сам он был далеко неспокоен. Пройдя во флигель, он захватил с собой из комнаты отца все принадлежности для грима; скинул для удобства казенный мундир и перед стенным зеркалом опытной рукой разрисовал себе сперва легкими морщинками лоб и углы рта, подвел затем брови, а в заключение приклеил усы и козлиную бородку.
— Параскеве Пантелимоновне нижайший добридень! — произнес он вслух голосом дьячка Хомы Григоровича и с умильной улыбкой отвесил поклон своему двойнику в зеркале. — Как есть Хома Григорович! Ни за что не узнают. Чудесная, право, штука — этакий грим, за которым ты как за непроницаемым щитом. А сердце в груди все-таки ёкает, колотится… Прорепетировать разве еще на всякий случай в действии?
Кто со стороны наблюдал бы теперь за ним, как он громко говорил сам с собой, как с уморительными ужимками, глупо хихикая, раскланивался перед кем-то, как, потирая руки, садился за стол, а потом в смертельном страхе вскакивал снова, чтобы залезть под диван, — тот легко мог бы принять его за помешанного.
Но тут, под диваном, репетиция внезапно прервалась. Из отцовской комнаты рядом донесся посторонний голос, от которого у мальчика дыхание сперло.
«Неужели все-таки Павел Степанович! Господи, помилуй! Да, он! он!»
— Да я еще с утра, слышите: с петухами был бы здесь, кабы не проклятая рессора! — горячо оправдывался вновь прибывший. — Дернула меня нелегкая завернуть в сторону…
«Ой, не ходи, Грицю, на вечорници», — пропел в ответ Василий Афанасьевич. — Упустя лето по малину не ходят. Упустили ведь даже генеральную репетицию…
— Да что я вам, сударь, наконец, пешка, что ли? — пуще расходился Павел Степанович. — Доколе нужен, так «сделайте божескую милость», а не нужен, так «убирайся к черту»? Я заставлю уважать себя…
— Ну, полноте, почтеннейший! О каком-либо неуважении к вам не может быть и речи. Сказать же по душе, порубок-то мой уж так-то зрадовался комедианствовать с нами! Будьте великодушны, пане добродию…
— Оце ще! Уступить свое место безбородому школьнику перед всей знатью Украины, можно сказать, это было бы не великодушием, а малодушием.
«Ни великодушия, ни малодушия вашего мне не нужно»! — хотелось крикнуть школьнику из-под дивана.
Но для этого сперва надо было выкарабкаться оттуда. Он стал выбираться; но что-то сзади его держит и не пускает. Он ощупал за спиной рукой. Ну, так! Жилетная пряжка, злодейка, зацепилась за паклю продавленного дивана — ни тпру, ни ну!
В это время Василий Афанасьевич заглянул в комнату сына:
— Ну, Никоша, плохо наше дело… Да где-ж это он? — пробормотал он про себя.
— А не его-ль вон ноги торчат? — заметил вошедший вслед за ним в комнату Павел Степанович. — Знать, роль свою под привалком повторяет? Вылезайте-ка, молодой чоловик, вылезайте, надо нам поторговаться с вами.
— Не могу… — глухо послышалось из-под дивана.
— Торговаться не можете? Эге! Аль завязли? Гай-гай! Ну, батенька Василий Афанасьевич, вы берите сыночка за одну ножку, я — за другую: авось, общими силами вытащим оттоле.
Им это, действительно, удалось, но с пожертвованием пряжки, которая так и застряла в диванной пакле.
— Ну, что, батенька, кабы сия самая оказия с вами на сцене приключилась? — говорил Павел Степанович. — Ведь это явно сам рок вас предупреждает не лезть в воду, не спросясь броду.
— Да я и не желаю уже лезть куда бы то ни было…
— Даже под привалок? Хе-хе! Вот и сговорились без всякого торга. А мне, признаться сказать, быто-таки маленько жаль оставить вас этак за бортом, не солоно хлебавши; ведь вы, я вижу, и физиономию-то себе уже раскрасили и бородой разукрасили; поверьте, так жаль…
«Провались ты с твоей жалостью!»
Впрочем, это не было произнесено вслух, а только подумало, с тайным, быть может, желанием, чтобы это случилось еще за час назад.
Сорвав усы и бородку, Гоголь тщательно смыл с лица искусственные морщины, а затем тихомолком проскользнул в парк. Всего охотнее он сейчас бы уселся в отцовскую коляску и умылся без оглядки в родную Васильевку. Но так как сделать этого было нельзя, то он пошел бродить по парку.
Обширный кибинцский парк был совершенно безлюден: ввиду предстоящего спектакля гостям было не до гулянья; а постоянным обитателям Кибинец — и того менее. Единственными живыми существами, попавшимися мальчику на его одинокой прогулке, были два великолепных белоснежных лебедя на большом зеркальном пруде. По ту сторону пруда виднелись приготовления к иллюминации и фейерверку: саженный деревянный вензель, усаженный разноцветными плошками, по бокам его — два деревянных же колеса на высоких подставках, а направо и налево от дерева к дереву гирлянды цветных фонарей.
Но все это его теперь ничуть не интересовало; а когда оба лебедя, обрадованные появлением одного хоть гуляющего, подплыли к берегу за обычной подачкой, Гоголь, точно стыдясь их, повернул и пошел обратно к дому.
Глаза его были тусклы, но сухи, лицо, пожалуй, несколько расстроено, но как-то чересчур неподвижно. Словно ничего не различая перед собой, он шел сперва по дорожке, а когда та круто взяла в сторону от театра, выдвинувшегося задним фасадом в парк, он, не изменяя направления, пошел вперед по траве, пока не наткнулся на деревянную стену театра. Здесь силы как будто разом его оставили, и он повалился ничком в густую, мягкую траву. Но как и прежде, он не плакал; с добрых полчаса лежал он пластом, как труп, не шевелясь, не дыша, и пролежал бы так, вероятно, еще долго, если бы сквозь дощатую стену из театральной залы явственно не донеслось к нему рукоплескания и вызовы: