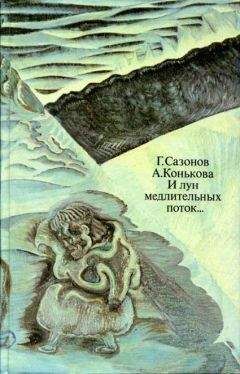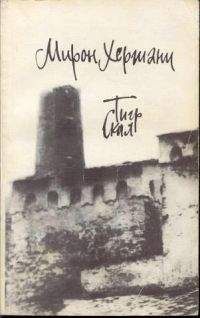Старик похлебывал из глиняной кружки горячий чай, разглядывал евринцев.
— Бабы у них табак трубкой курят, — сообщил старик, — значит, купец сюды ходит. Гончарную поделку купец сюды не потащит, а кузне твоей, поди, навредил.
— Ништо, — махнул ручищей Васек. — Для кузнеца завсегда есть работа.
— Веди меня в поселенье, — тоненько крикнул старик, и Васек поднял его на крутой берег.
И евринцы увидели, как старичок спрыгнул на землю и, мелко перебирая ногами, побежал по Евре, а за ним валко вышагивал Васек. Они обошли селение, сопровождаемые толпой ребятишек; старик удовлетворенно крякнул, когда на берегу протоки, у кромки ельника, заметил глинистый обрыв. Ощупью, осторожно он потер глину, поплевал, снова потер, скатал ее в шарик и принялся вытягивать.
— Ну, как, тятенька? — Васек поднялся на взгорок и увидел бесчисленные блюдца озер, разделенные невысокими гривами.
— Остаемся! — порешил старик. — Идем к старшому.
— Понимаете по-русски? — обратился он к старейшинам. — Ага. По ремеслу я скудельник, Филей прозываюсь, а сынок… поклонись, Васенька… а сынок кузнец — ножи, топоры, подковы. И бондарь он! — Старик поднял вверх палец. — Понимаешь?
— Понимаем, — ответили старейшины, — ножи, топоры, подковы понимаем. А тебя — нет!
— Меня? — завопил Филя. — Меня, скудельника, гончара, ты не понимаешь? Покажь, Васек! — И Васек из мешка вынул отменную глиняную посуду.
— Живите! — решили старейшины. — Глядеть будем.
На селянский сбор женщин никогда не пускали. Решение схода старейшины самолично передавали Матери Матерей, а Апрасинья, перебрав их по косточкам, дотошно проникнув в их подноготную, уже передавала женщинам, если те решения касались нового или старого запрета. Но и без старейшин Апрасинья знала все и еще чуть побольше о том, что говорилось и решалось на сходах, ибо там обычно верховодил Мирон.
А Мирон ничего не мог таить от Апрасиньи. Мирон понимал, что любой закон, любое решение, которое принимает сход, как-то неуловимо, но всегда бьет по женщине. Грузнеет ясак — женщина спит меньше, дорожает шкурка — женщина спит меньше, дорожают порох и капканы — женщина спит меньше.
«Наверное, настанет время, — размышляет Мирон, — когда она заснет и долго не примет мужчину. А мужчина станет ходить собакой от юрты к юрте. Будет он искать женщину, что высыпается на лебяжьей постели, как жена князька Сатыги. Ведь она даже, говорят, денежку дает, кто ее в лес за кусты утащит».
А Мать Матерей, огрузневшая от силы Апрасинья, женила Мыколку на мансийке Сафроновой, на молодой вдове, что три зимы назад потеряла своего охотника в урмане.
— Не за-ради тебя, — сказала Мать Матерей. — За-ради ее. — Пущай родит светловолосых сынов, но пай им Евра даст. Помни!
— Га! — осклабился Мыколка. — Она родит, ежели ты коня мне дашь. Землю мне пахать да ржи с овсами сеять.
— Мирон, — осторожно прикоснулась Журавлиный Крик к плечу мужа, — он научит евринцев рубить крепкие русские избы.
Апрасинья дала Сафроновой своего старого доброго еще коня.
Старый Филя-скудельник с сыном Васькой Чернотой на берегу протоки поставили кузню. Поляк Анджей — Ондрэ Хотанг (лебедем его прозвали за то, что часто оглядывался, будто все ему погоня чудилась), поставил избу у неглубокого, но быстрого ручья, что впадает в круглое, как блюдо, озеро. Хворый был Ондрэ Хотанг, кашлял надсадно, видели евринцы: никогда уж не уйти ему в свою землю. На кусках бересты, на гладко оструганных дощечках красками, что научила добывать Апрасинья, рисовал он глухой и задумчивый лес, полный тайны и неразгаданной силы. Но лес тот — Мирон подолгу смотрел в раскрашенную бересту — мертвяще цепенел и наполнялся лютой злобой, холодом и недоступностью. Ондрэ накладывал на доску краски, и между медовых стволов сосен появлялись оскаленные морды, мохнатые хари с вывернутыми губами, а Хотанг все пришептывал: «Пся крев… Царь-освободитель… Дал ты волю… а землю дал?» И опять в лесу на кривых заросших тропах, что сторожат мухоморы, возникали крючконосые твари с перепончатыми крылами.
— Тьфу! Ы-ы-у-у… Ёлноер, — ругался Мирон. — Это не наш лес. Это душа чужого леса.
Священное место летнего запора
1
День ото дня солнце теплело, желтело, округлялось, как яйцо, поднимало над собою небо. И небо уходило вверх, все выше и выше, распахивалось и становилось прозрачным — исходило оно светом. То был свет солнца, и луны, и невидимых уже звезд, и угасшего, истонченного снега, и ломкой ледяной корочки. То было пробуждение света, рождение его из тьмы, такое ожидаемое, как рождение ребенка, и всегда такое неожиданное, и казалось, что вот-вот ударит громовой раскат и захлестнет все великий разлив и плеск света. Солнце поднималось все выше, удлиняя фиолетовые тени, и торопило бег разбуженного сока, и сок вскипал, гудел в березах и рвался в затихшие, притаившиеся комочки почек, и те грузнели, набухали как-то добро и бесстрашно. По вечерам в сиреневых волнах заката хлестко плескал упругий ветер, но к рассветам он стихал, и солнце покойно выкатывалось на подернутую ожиданием волнистую равнину. На земляных крышах, около пней и валежин пробивались травинки, тоненько, как муравьиные усики. Окуталась в зеленую дымку лиственница — каждая веточка выпустила из себя мелкие, как пух, легонькие хвоинки. По вечерам, когда на миг замирал южный ветер, уже улавливалось тонкое, чуть пришепетывающее дыхание озеленевших почек, шепот ветвей и вздохи пробуждающегося леса. И вот уже река принялась оживать, лопнул лед, и тоненькие позвенькивающие ручейки наполняли собой вымороженную пустоту русла, и то день ото дня, час от часу все приподнимало и приподнимало над собой холодную тяжесть льдин, подняло и раскололо. Льдина полезла на льдину, шурша и тупо ударяя, выныривали из тяжелых густых волн глыбы льда и, высветив синевой скола, погружались в стремительные струи. Ожила река и распахнулась.
— Пора! — решили мужчины, вслушиваясь в гудящую реку. — Пора готовиться к запору!
Ушла долгая угарная зима. Отшумели метели, пурги… Пора, пора перегораживать реку, пора готовиться к летней ловле рыбы.
Кончилась долгая дымная зима — тэли, нахлынула на землю туи — весна, наступил месяц июнь — Яйт Тустнэ Ёнкып — месяц летнего запора. О, какая это пора! О какой это долгожданный праздник, какое это священное, великое время — время рождения летнего запора!
Река Евра, опрокинув льдины в Конду, бросилась на берега, хлынула на тальники и займища. Играла она долго, плескалась и пенилась, передвигала мели и гудела на быстрине и словно проскальзывала в солнечное кольцо, обручаясь с берегами. Медленно она успокаивалась и вот вошла в берега — в темно-зеленое, сочное, живое обрамление, устало выгибаясь волной и дремотно прикасаясь к уснувшим прибрежным косам и галечному бичевнику, и уже покойно выблескивала, туго проносясь мимо кедрачей и приподнятых на мысах березняков. Выше Евры река круто изгибалась в упругую дугу, она словно переламывала себя. Стремнина ее погружалась в омут, уходила в глубину с гулом, шумно, тяжело плескала она волной, и вода, пенистая, скрученная в сотни струй, ходила в водоверти непокойными кругами. Путались те струи, как кудель, закручивались в глубокие воронки и набегали на низкий левый берег. Но не слабела река — волна напирала на волну и, уже усиленная, тугая, устремлялась к правому берегу. А тот поднимался над рекой в двадцать сажен, желтый, из отмытого крупнозернистого песка, простроченного сверкающими чешуйками слюды, — теплый, чистый берег. Река с разгону тупо и слепо ударяла в неподатливую крутизну и распадалась, расслаивалась и выметывалась крутыми, злыми брызгами и струями. А берег стоял неподвижно, незыблемо, вглядываясь в реку сотнями нор, где гнездились легкие серпокрылые береговушки. Не сокрушив берега, река стремительно отворачивала и, потемневшая, напряженная до предела, разрывая и раздвигая лес, уходила в кондинскую тайгу, нанизывала на холодный свой стержень озера и протоки, образуя Сатыгинский и Леушинский туманы. Вот здесь-то, у поворота реки, под крутой стеной правого берега, из века в век ставили летний запор, перегораживая и укрощая Евру.
Селянский сход обозначил время и назвал главным Мирона Картина, а в помощь поставил несколько стариков — Портю, Апоньку да Ситка. Огромную заботу взвалил сход на широкие плечи Мирона. Это настоящая мужская работа, она истинна и велика, потому что от нее зависит жизнь всего селения — будет ли она сытой и теплой или остервенело голодной, тяжкой.
Одних мужчин, крепких, тяжелых, сильных, и мальчиков-подростков, но еще не юношей Мирон отвел вверх по реке, гораздо выше места запора, на высокий обрывистый берег, который из года в год потихоньку сползал, был зыбким, как прокисшая сметана в деревянной миске. Из-под берега вырывались чистые родники, расшевеливая прозрачные, окатанные, как бусинки, песчинки. Влажный, отяжелевший песок здесь сочился, будто перезревшая морошка, и опадал, морщился, отслаивался отмороженной кожей. Подземные воды изнутри подтачивали берег, речные струи подгрызали скользящей волной по песчинке, и берег позапрошлый год рухнул, как пьяный. Сползая в реку, ощетиненный кустами, он потащил за собою гладкоствольный вековой сосняк. И берег ощерился, как старая челюсть, — стволины шатались, другие наклонялись под тяжестью кроны и обнажили тугие витые корни.