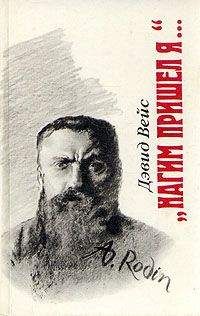Мешки были доставлены на двор к патриарху Иову. Царь немедленно велел собрать всех важных людей. В присутствии думных бояр и дьяков коренья были высыпаны на пол.
Поднялся жуткий крик:
– Кто? Зачем?
– Наказать!
– Казнить!
– На плаху за это!
– Кого на плаху?
– Романовых, вот кого.
Привели Романовых. Первым Федора Никитича, как главного врага Годунова. Потом всех его братьев.
Они ничего не могли отвечать против невероятного шума и злости, обрушившихся на них.
Но долго их и не расспрашивали. Быстро всех Романовых отдали под стражу. Кое-кого начали пытать. Причем не столько спрашивали о кореньях, сколько о беглых монахах, о письмах Марфы Нагой, о бесстыдных самозванцах, вести о которых постоянно поступали в канцелярию Семена Никитича.
Федора Никитича сломали быстро – портретом. Его в тот же вечер доставили в пыточную из подвала коломенского дома Романова…
– А что это за портретик такой? Кто это в царской одежде на троне сидит? И почему это подпись под ним затерта? – спрашивал мелкий подручный Семена Годунова.
– Нет там никакой подписи! – хмуро отвечал Романов.
– А я вот как гляжу, так и вижу, что там написано, – возражал Семен Никитич.
– Что же там написано? – спрашивал седобородый красавец Федор Никитич.
– А написано там «Федор Никитич Романов, государь всея Руси». И всего-то.
– Сказать что хочешь можно, – не соглашался Романов.
– Что, велеть очистить? Мастеров позвать?
Романов не стал спорить. Он прекрасно понимал, что служба доносов у Годуновых поставлена прекрасно. Что о надписи этой Годуновым давно уже ведомо. И не случайно портрет принесли сюда с такой шустростью.
– Не надо очищать, – сказал он. – Только ты, Семен Никитич, сам ведаешь, что портрет этот старый. Еще до венчания Бориса Федоровича на царство писан.
– Портрет-то старый, хозяин еще не стар. Горяч, все вперед рвется. Сам не рвется, братья его рвутся. Моли Господа, Федор Никитич, чтобы тебе голову целу оставили! Уведите!
Запытали нескольких слуг. Бедные рабы умирали в муках, но ничего больше выгодного для Годуновых о своих владельцах не сказали.
Вместе с Романовыми взяли, пытали, потом разослали по разным монастырям и тюрьмам князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Сицких и других.
Не тронутыми остались Шуйские и Федор Иванович Мстиславский. Один по чрезвычайной хитрости и лицемерности, другой по чрезвычайной простоте и честности.
Москва замолкла и затаилась. Неизвестно стало, чего больше, пользы или вреда, принесла эта расправа. Романовых по Москве уважали.
Чтобы разобраться, включили один веками проверенный механизм: принародно наградили слугу бояр Шестуновых Василку Воинка за донос на своих господ. Наградили его большими деньгами, званием и поместьем с крестьянами. И таким образом на годы вперед обеспечили себя доносами и подметными письмами на господ и соседей.
Страна шла правильным путем!
* * *
«От командира пехотной роты Жака Маржерета библиотекарю королевской библиотеки милорду Жаку Огюсту де Ту.
Париж
Уважаемый милорд!
Я надеюсь, что мои первые письма благополучно достигли нашего теплого и милого моему сердцу Парижа. И что Вы, милорд, и его величество король ознакомились с моими посланиями. Поэтому пишу следующее письмо.
Сначала о главных событиях предыдущих лет.
В 1601 году начался тот великий голод, который продлился три года. Мера зерна, которая раньше продавалась за пятнадцать солей, стала продаваться за три рубля, что составляет почти двадцать ливров.
Слава богу, эти страшные дни миновали, и при некоторой сытости и благополучии о них сейчас можно говорить спокойно.
В продолжение этого времени совершались вещи столь чудовищные, что выглядят совершенно невероятными. Ибо было довольно привычно видеть, как муж покидал жену и детей, жена умерщвляла мужа, мать – детей, чтобы их съесть.
Я был свидетелем, как четыре жившие по соседству женщины, оставленные мужьями, сговорились, что одна пойдет на рынок купить телегу дров и пообещает крестьянину заплатить в доме. Но когда, разгрузив дрова, он вошел в избу, чтобы получить плату, то был удавлен этими женщинами и положен туда, где на холоде мог сохраняться, дожидаясь, пока его лошадь будет съедена в первую очередь. Когда это открылось, они признались в содеянном и в том, что тело этого крестьянина было третьим…
Словом, это был столь великий голод, что, не считая тех, кто умер в других городах Русии, в Москве умерли от голода более ста двадцати тысяч человек. Они были похоронены в трех назначенных для этого местах за городом, о чем позаботились по приказу и на средства императора Бориса. Позаботились даже о саванах для погребения.
Причина столь большого числа умерших в городе Москве состоит в том, что император велел ежедневно раздавать бедным, сколько их будет, каждому по одной московке. То есть около семи турских денье. Прослышав о щедрости императора, все бежали сюда, хотя у некоторых еще было на что жить. Но Москве уже нельзя было прожить на семь денье, и люди, впадая в еще большую слабость, умирали.
Борис, узнав, что все бегут в Москву, чтобы умереть, приказал больше ничего им не подавать. С этих пор людей стали находить на дорогах мертвых и полумертвых, что было необычайным, зловещим зрелищем.
Сумма, которую потратил император на бедных, невероятна. Не было города, куда бы он ни послал больше или меньше денег для прокормления сказанных нищих.
Но об этом вспоминать больше не хочется.
В начале августа года приехал сюда герцог Иоанн, брат короля датского Христиана, чтобы жениться на дочери императора. В его свите было около двухсот человек.
Вскоре после одного обеда он заболел, как считают, от невоздержанности, и умер спустя некоторое время. Все лечившие его врачи впали в суровую немилость императора.
Дальше мне хотелось бы остановиться на некоторых отрицательных чертах русского императора, главным образом на его подозрительности и мнительности. Но об этом с упоминанием многих фамилий я напишу в следующем письме, которое попытаюсь отправить с очень надежным нарочным.
Теперь, под конец, я расскажу о том, что мне хорошо знакомо и близко, об этнографических подробностях. Помнится, я остановился на ямских заставах и лошадях.
Все их лошади болеют больше, чем во Франции. Они очень подвержены болезни, называемой „норица“. Это гной, скапливаемый спереди на груди, и если его быстро не истребить, он бросается в ноги, и тогда нет спасения. Но как только владельцы его замечают, то прорезают кожу на груди у лошади, почти между ногами и вкладывают туда веревку из пеньки и древесной коры, которую натирают дегтем. Затем два-три раза в день заставляют лошадь бегать, пока она не будет вся в мыле. И часто передвигают названную веревку. Через три-четыре дня нечистота выходит через отверстие с кровью. Затем вынимают веревку, и дыра начинает закрываться.
Все, на этом о лошадях можно покончить.
И я с вами прощаюсь.
Столь длинные письма меня основательно выматывают, и порой я настолько устаю, что в конце теряю мысль, начатую в начале строчки.
P. S. Мне приятно, что мои послания попадают в столь прекрасные руки. И скоро я продолжу описание местной опасной, но очень интересной жизни.
Командир пехотной роты по охране его императорского величества
Жак Маржерет».
В кабинете у Бориса Годунова было тесно, по кабинету расхаживал патриарх Иов. В углу на скамейке примостился царевич Федор.
Патриарх был почти сердит, настолько, насколько позволял его высокий духовный сан. Сан, исключающий личные эмоции.
Со всех концов Москвы священники докладывали о недовольстве царем и его порядками. На исповедях люди каялись в ростовщицких делах. Никто не давал деньги в долг по-дружески. С самого ближнего человека требовали недельный прирост долга в четверть, месячный прирост в полную сумму.
Москвичи, как псы, язвили и истребляли друг друга. Богачи брали росты больше жидовских и мусульманских. Для расправы нанимали убийц.
Люди каялись в воровстве, грабежах, в поджогах, в содомском грехе. Каялись в наслании порчи на родственников ради корысти. Каялись в доносах на ближних ради наживы. Люди в стране гнили.
Считали, что источником всех бед является неправедный царь. Москва «сдавала» Годунова.
– В чем дело, Борис Федорович? – спрашивал раздраженный Иов. – Все мы на тебе висим. При царе Иване, в самую живодерную пору, ты сумел лицо сохранить. Даже иноверцы это отмечали. При Федоре ты ласков был и милостив. А сейчас, когда ты царем стал, столько на тебе вины!!!
Борис начал отвечать с ходу, как будто давно готовился к этому разговору. Он выбрал откровенную форму рассказа – как будто говорил сам с собой:
– И как мне жить? Был милостив, Бориской звали. Стал узурпатором, самодержцем, тираном – Борисом Федоровичем стали величать. Люд такой у нас в стране – Иван Васильевич их резал, пытал, так он им нравился: вот, мол, царь настоящий был – половину Новгорода за вины поубивал и в реке поутапливал. Месяц река была красная – вот это царь! Настоящий! – Он выдержал паузу и сам себя спросил: – И как в этой стране мне, бедному, жить? Мне сейчас казнить надо четыре семьи, и я их казню. А если я сегодня по просьбе сына милость проявлю, завтра против меня вдесятеро восстанет. Такой у нас люд странно устроенный. Те же князья Ваньке Грозному сапоги лизали, тряпками у ног валялись, а как против меня идти, так железными становятся. Что у них – воля такая железная? Как бы не так! Спесь да жадность – вот их воля. Желание власть над Москвой получить – вот их железо! Я что, сам таким злобным да лютым сделался? Это они меня сделали. Хорошее они не видят. Я все свои и царские капиталы в голод умиравшим отдал, много они меня благодарили?! Все считали, раз я деньги даю, значит, у меня вдесятеро остается. Если пожар в Москве, а я ее отстраиваю, значит, я и поджег, специально пожар устроил, чтобы Москве понравиться. Если я церкви строю, значит, грехи по убиенному младенцу замаливаю. Если крепости строю, значит, врагов боюсь, свою слабость царскую чувствую. Это я о боярах да князьях говорю, а простой люд что – лучше? Пьянство да церковь – их единственное развлечение. Нет чтобы строить что-то, капиталы наживать – всех зависть снедает и злоба к богатому. Богатый этот, может, и имеет всего пять московок, но у него самого ведь меньше. Значит, надо отнять, или украсть, или очернить имеющего. Да разреши им без казни друг друга убивать – завтра они половину страны порежут.