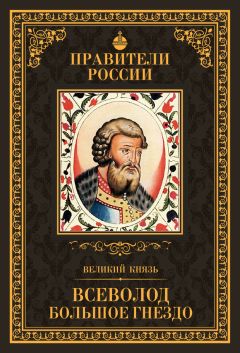– Знаю, от семейного пира оторвал, – сказал Александр, как только Олексич появился в дверях. – Спешки вроде никакой нет, может, и зря оторвал, но беспокойно мне стало после этой грамоты.
Невский ткнул пальцем в свиток, лежавший на столе, и вновь зашагал по палате, заложив руки за спину. Это всегда было признаком особой озабоченности, Гаврила знал об этом, а потому без приглашения молча сел на лавку.
– Издалека переслали, из Цесиса, дорого стала мне, да того стоит. – Александр сел к столу, взял свиток. – Это – устав Тевтонского рыцарского ордена. Писан по-немецки, так что читать буду сам и только главное. Может, квасу хочешь с похмелья-то?
– Похмелье завтра будет.
– Это ты верно сказал. – Невский развернул свиток и начал читать, с листа переводя на родной язык: – «Наш устав: когда хочешь есть, то должен поститься, когда хочешь поститься, тогда должен есть. Когда хочешь спать, должен бодрствовать, когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для ордена ты должен отречься от отца и матери, от брата и сестры, и в награду за это орден даст тебе хлеб, воду и рубище». Что скажешь?
– Нелюди.
– А нас татарами пугают. Вот чем надо пугать! – князь потряс свитком. – Но – нельзя, своего человека подведем.
– Такие никого не пощадят.
– Татары тоже не щадят после первой стрелы. Но коли до первой стрелы успел покорность изъявить, не трогают. Грабят, но не трогают.
– Чогдар рассказывал?
– Не только Чогдар. Жители всех городов, которые без боя сдались, все живы остались. А татары пограбили да и ушли. А церкви не грабили. Ни церкви, ни монастыри. Чогдар мне объяснил, что закон Чингисхана им это запрещает. Яса называется. А это, – он опять потряс свитком, – это – немецкая яса.
– Да, эти обжираться перед битвой не будут.
– Сбыслав у тебя пирует? – неожиданно спросил Александр.
– Все-то тебе ведомо, Ярославич, – усмехнулся Гаврила. – В моем доме хмель для него послаще вареного.
Александр нахмурился, по-отцовски грозно насупив брови. Потом сказал, вздохнув:
– А может, оно и к лучшему, Олексич.
К тому времени длительное молчание за столом уже прервалось путаной и горячей речью Сбыслава. Если бы не уверенность в себе, весомо оттягивающая шею золотой цепью, если бы не первые робкие улыбки Марфуши во время их занятий немецким языком, если бы не хмель, с особой силой ударивший вдруг в голову после внезапного вызова Гаврилы Олексича к князю Александру Невскому, он вряд ли отважился бы на такое откровение. Но он – отважился, выпалил все, что бурлило в нем, и замолчал, опустив глаза.
– Мне и горько и радостно сейчас, и радости во мне даже чуть больше, чем горечи, – тихо сказала Марфуша, не замечая слез, которые текли по ее щекам. – Как я могла бы быть счастлива, Боже правый!.. Как счастлива… Только дала я обет пред Господом нашим уйти в монастырь, как только женится брат мой Гаврила Олексич и в доме его появится хозяйка. Прости меня, витязь, ради Христа, прости меня…
Батый жестоко расправился с Киевом, брошенным собственными князьями. Киевляне под руководством воеводы боярина Димитрия с мужеством обреченных бились на стенах и улицах «Матери городов русских», однако участь города и его жителей была решена. Израненного воеводу притащили во временную ставку Батыя.
– На тебе нет вины за убийство наших послов, – сказал Бату-хан. – Сражался ты отважно, как подобает настоящему воину. Я дарую тебе жизнь и свободу, когда наши знахари излечат твои раны.
– Боль от сабель и стрел твоих воинов ничто по сравнению с болью земли Русской, – с трудом, но твердо выговорил боярин Димитрий. – Неужто воины твои еще не насытили жестокость свою, а ты, хан, не натешил еще тщеславие свое? Возьми назад дар свой и предай меня самой мучительной казни, только не лютуй боле на Руси.
– Ты не только доказал свою отвагу, но любовь к земле своей, – усмехнулся Бату-хан. – Я подумаю о твоей просьбе, когда знахари залечат твои раны.
Во время этого разговора Бурундай и Чогдар в сопровождении небольшого отряда стражи подъехали к ставке Бату-хана. В пути они почти не разговаривали, поскольку в среде монгольской воинской знати это считалось дурным тоном. Однако еще в первый день их бешеной скачки со сменными лошадьми Чогдар не удержался от вопроса, весьма его беспокоившего:
– Ты – знаменитый воин, Бурундай. Почему же тебя поставили во главе посольства к признавшему свою покорность владимирскому князю?
– Потому что я знаю тебя в лицо. Ты помнишь наши встречи, Чогдар?
– Помню. Ты держался за второе стремя Субедей-багатура.
– Тогда у тебя не должно быть больше вопросов.
Чогдар понял все и более вопросов не задавал. Тот ничтожный чиновник, который осмелился потребовать от него, знатного монгола, изъявления покорности, послал донесение об их встрече, и Бурундаю повелели доставить его самому Бату-хану для суда и расправы.
Но по прибытии в ставку Бурундай приказал выделить ему юрту, подобающую его прежнему высокому статусу, слугу и все мыслимые удобства для походной жизни. Два дня Чогдара никто не беспокоил, никто не ограничивал его свободы, а низшие офицеры, не говоря уже о простых воинах, с подчеркнутым почтением приветствовали его. Он не обольщался, зная непростой характер Бату-хана и отлично представляя его занятость. И все же здесь было над чем подумать, и он – думал.
Вечером второго дня пришел сам Бурундай. Раскланявшись, как с равным, молча пригласил следовать за собой. Они вышли из юрты, но направились не к белому шатру хана, а в иное, весьма скромное жилище, лишь на немного больше юрты, которую отдали Чогдару. Однако у входа оказалась охрана, Бурундай вошел один, но вернулся быстро, сам откинул полог перед Чогдаром и молча кивнул головой, приглашая войти.
Чогдар перешагнул порог и остановился. В центре юрты почти без дыма горел костер, с противоположной стороны которого виднелась плохо освещенная грузная фигура. Больше в юрте никого не было, но Чогдар уже понял, кто сидит перед ним, и склонился в глубоком поклоне.
– Садись с той стороны, с какой было стремя, которого ты держался.
Чогдар прошел на подсказанное место, еще раз поклонился и сел. Субедей-багатур наполнил его чашу кумысом, поднял свою и сказал:
– Я давно похоронил тебя в сердце своем, но рад видеть живым.
Здесь полагалось лишь отвечать на вопросы, но поскольку вопрос не прозвучал, Чогдар склонил голову и пригубил кумыс только после того, как это же сделал великий полководец Чингисхана.
– Монголы – маленький народ, но он катит сегодня колесо времени по огромным странам и многочисленным народам, – сказал Субедей-багатур. – Почему же руки сына моего друга не помогают нам толкать это колесо туда, куда направил его Чингис?
– Меня спас от смерти русский витязь среди голой степи. – Чогдар говорил медленно, обдумывая каждое слово. – Я не знал, куда ты увел свое победоносное войско, мой господин. Я долго был между жизнью и смертью, но спасший меня витязь кормил, поил и защищал меня. Он стал моим андой, мы побратались по монгольскому и русскому обычаям и жили среди бродников, защищая их табуны от половецких набегов. Объясни мне, мой господин, есть ли в этом моя вина.
Субедей-багатур молчал, размышляя. И теперь Чогдар наполнил кумысом их опустевшие чаши.
– Ты ушел служить русскому князю, исполняя волю своего анды?
– Мы вынуждены были бежать под руку русского князя, чтобы спасти жизнь сына моего анды. Защищая честь отца, он убил татарского десятника в честном поединке.
– Убийство наших людей карается смертью.
– Он служит князю Александру и доказал свою доблесть в битве на Неве, мой господин.
В тусклых глазах Субедей-багатура впервые вспыхнул огонек:
– Мы слышали об этой битве. Кажется, князь получил прозвище Невского?
– Он потерял всего два десятка воинов, сражаясь против шведских рыцарей, в несколько раз превосходящих его силы.
– Ты подробно расскажешь об этой битве самому Бату. И рассказ твой должен ему понравиться. – Субедей-багатур помолчал. – А что касается сына твоего анды… Как его зовут?
– При рождении его нарекли Сбыславом, при крещении – Федором.
– Пусть он навсегда забудет о первом имени. Пред нашими законами провинился Сбыслав, а Федор ни в чем пред нами не виноват.
Сердце Чогдара забилось настолько сильно, что он позволил себе осторожно вздохнуть. В словах всемогущего советника самого Бату-хана он услышал ясный намек на собственное прощение. Вопрос теперь заключался в том, какую цену за его жизнь потребует жестокий, расчетливый и проницательный внук великого Чингисхана.
На следующий день Чогдара принял сам Бату-хан. В ханскую юрту провожал его опять Бурундай и опять лишь доложил и тут же вышел. И сердце Чогдара опять стиснуло острым ощущением опасности, когда он переступал через порог. А переступив, как и полагалось, пал на колени, не смея поднять головы.