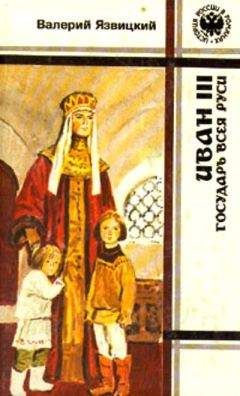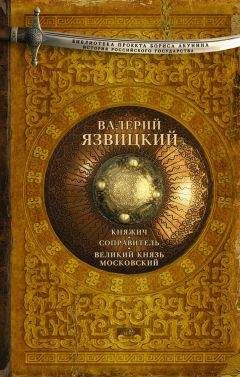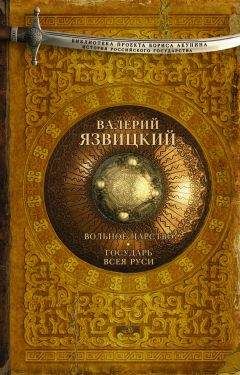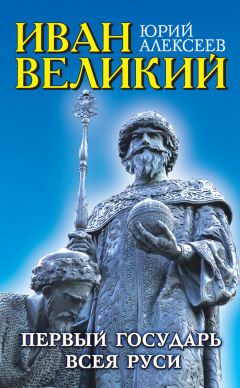— Стой, не реви, — остановил его другой. — Ты вот что разумей, княже.
Мы монастырю-то засов[58] в лесу высекли и сюда вывезли, а зато нам токмо по хлебу да по осьмине толокна на душу. Забили кол и засов засовали, по хлебу же дали. Да за ужище за езовые[59] по хлебу на выть[60] да по осьмине толокна…
— Что ж нам, и ухи не похлебать, — снова зашумел рослый мужик, — всю рыбу не съедим, хватит и братии, а нам еще к зиме кол и засов для них вымать надобно будет…
Монах подошел к княжичу и сказал со злобой:
— Не верь им, княже, ибо пияницы и ленивицы велии. Богу послужити усердия не имеют. Иди с богом, княже, спаси тя Христос…
Княжич посмотрел на монаха и вспомнил слова старой государыни, в Москве еще ему, во время смуты, сказанные: «Богу молись, а чернецам не верь». Молча поклонился он монаху и быстро пошел прочь.
В хоромах княжичей в своем покое принимал Алексей Андреевич гостя, дворецкого Константина Ивановича, между делом к нему заглянувшего. Пили мед стоялый, заедая коврижками. Коврижки местные были, переяславльские, Константин Иванович на торге купил и другу своему принес.
— Когда же государь-то будет? — спросил дьяк. — Ведь уж дня три, как конник-то с сеунчем пригнал. А ежели князь из Мурома в тот же день выехал, то и ему время здесь быти…
— А може, князь два дня, а то и три в Муроме простоит? Да и скакать-то не станет, как конник воеводы Оболенского. Може, и раны еще у него болят. Чаю, все же дня через два будет. Так и государыня Софья Витовтовна ожидает.
— Великое разумение во всем у государыни, — заметил почтительно Алексей Андреевич. — В нее да в деда своего, Василь Митрича, и наш Иванушка.
— Истинно, Лексей Андреич. Не видал я и слыхом не слыхал, чтобы дитя было так мудро. Дивятся ему люди.
— Не токмо с разумом да борзостью все он ведать может, но и всем естеством своим и станом не дитя он, а отроку подобен. За многих одному ему от бога столь много дано…
— Истинно, истинно, Лексей Андреич, а еще и другое скажу тобе. Ныне время у всех разум вострит. Время наше вельми трудное и злое. Как вран хищный, оно прямо в темя клюет всякому! Данилка вот мой, всего по двенадцатому году, а баит и о смутах, и о ратях, и о делах государевых…
— Да, время, — согласился задумчиво дьяк, — время грубое, жестокое, как рожон железный на всякого прет. И старые и молодые от бед всяких разумнее стали, а те, которых бог одарил, и того наипаче.
Дьяк случайно взглянул в окно и, увидев Ивана на крыльце хором, быстро промолвил:
— А вот и княжич пришел!
Константин Иванович встал, а Алексей Андреевич поспешно поставил в поставец сулею с медом, оставив на столе только свою недопитую чарку и блюдце с коврижками.
— Мы ныне, — продолжал дьяк, убирая и пустую чарку Константина Ивановича, — будем числа учити. Учение сие тяжко, а надо же ведать человеку числа недель, месяцев, лет и пасхалий,[61] ведать, как числить выти и деньги, как земли мерять и прочее.
— Худая голова моя для дел мысленных, Лексей Андреич, — прервал его Константин Иванович и, поклонясь вошедшему Ивану, сказал: — Здравствуй, Иванушка, отягчил наставник-то твой мысли мои убогие.
Иван улыбнулся и молча сел за стол подле Алексея Андреевича, а дворецкий вышел.
— Хочешь, Иванушка? — предложил ласково дьяк, указывая на коврижки, принесенные дворецким. — Вкуси от переяславльских снедей.
Иван, о чем-то думая, молча взял коврижку и, откусывая понемногу, стал есть. Дьяк, поглядывая на него, допил мед из своей чарки и спросил:
— Ну, княже, что смущает тя? Вижу по лику твому, что хочешь нешто неведомое мыслию объять…
— Отчего трясение земли, Лексей Андреич? — начал Иван медленно. — Сказывал мне Илейка, да не верю яз. Говорит он, будто земля на трех китах держится. Когда же ангел золотым копием прободет кита…
— Хе-хе! — весело засмеялся дьяк. — Умница ты, Иванушка. Не верь ты невеждам глупым. Токмо омрачением мысленным так сказывать можно. Разумно ли допустить, чтоб земля, и храмы божии, и святые угодники, и сам святой Иерусалим-град на тварях покоились?
— На чем же земля держится? — спросил нетерпеливо Иван, не спуская глаз со своего наставника.
— Стоит земля сама на собе, — медленно и вразумительно ответил Алексей Андреевич, — ибо в святом писании сказано: «Ты утвердил, господи, землю на ее основании!»
— Как же на самой собе? — не понимая и разводя руками, спросил опять Иван. — Вот чарка — на столе стоит, стол — на полу хором, хоромы — на земле, а земля как же? Не разумею…
Дьяк наморщил лоб, собираясь с мыслями, и вдруг, весело усмехнувшись, сказал быстро:
— Земля в океяне, яко доска плавает, основание же ее о четырех углах.
По краям земли горы высокие. Полнощные северные высоты выше всех прочих — всю ночь за ними солнце скрывается. Заходит оно за горы на западе и, обойдя северные, выходит опять из-за восточной высоты, подобной во всем западной. Отселе течет солнце над землей ввысь к полудню, а с полудня вниз к западу и там за гору уходит и в ночи по океяну низко летит, но не омочась нигде…
Иван смотрел прямо в рот Алексею Андреевичу, жадно ловя каждое слово, а когда тот окончил, долго еще сидел неподвижно. Странно ему было и дивно, как у часовой ветхой башенки, когда он часы самозвонные впервые увидел. Он чувствовал, как все кружится в голове его и будто глазами он видит и горы земные и как солнце течет, снижаясь к заходу, а потом мчится над океаном.
Много раз проходит оно вокруг земли, как видение…
— Иванушка! — окликнул его дьяк, видя, что княжич как бы не в себе. — Что ты недвижим, словно каменный?
Княжич вздрогнул и улыбнулся.
— Видел яз все, Лексей Андреич, все, что ты сказывал мне, — произнес он, будто просыпаясь, и, совсем оживившись, добавил: — Скажи мне теперь, пошто же бывает земли трясение?
— Разумен ты, княже, вельми разумен, — радостно заговорил дьяк, — и есть хотение у меня все, что мне ведомо, тобе преподать. Внимай же, Иванушка. В земле суть скважины и щели глубокие. Когда же ветры внидут в подземные щели и скважины, а оттуда исходить не могут, не могут прорваться вон, тогда от напора их дрожит земля, как дрожит мачта, когда парус полон ветру.
Ликующий звон-перезвон во все колокола, как на пасху, загудел над Переяславлем Залесским. Вскочил с лавки княжич Иван, а дьяк закричал весело и зычно:
— Государь наш, князь великий приехал!..
Через крытые сенцы перебежал княжич Иван в княжие хоромы, но покои там все пусты были. Выскочил он в переднюю, а потом и на красное крыльцо.
Видит, конный отряд подъезжает, а матунька бегом вниз спешит. Вот и отец подъехал в своих золотых доспехах. Помчался Иван по ступеням лестницы и сам не помнил, как очутился около отца. Видит, обнимает отец матуньку, целует ее, плачут они оба от радости. У отца голос дрожит, и все он одно и то же повторяет с нежностью и лаской:
— Сугревушка ты моя теплая. Сердца моего радость…
Успокоилась Марья Ярославна. Обернувшись, заметил отец Ивана.
Благословил его, поцеловал и, обнимая жену и сына, стал подыматься на красное крыльцо. Ждет их там старая государыня Софья Витовтовна, и Ульянушка с Юрием тут же.
Строгая стоит старая государыня, но глаза ее оторваться от сына не могут. Взглянул на нее великий князь и, оставив жену и сына, бросился к ногам ее, обнимает колени ей, руки целует. Неподвижно стоит Софья Витовтовна, только губы у нее дергаются да глаза самоцветами сияют. Такие же лучистые, ясные глаза и у сына ее Василия и у внука Юрия.
— Не чаял увидеть тобя, государыня-матушка, — говорит Василий Васильевич, подымаясь с колен.
Дрогнула старая государыня, охватила порывисто голову сына, прижала к груди своей и замерла совсем, глаза закрыла, а у ресниц крупными каплями слезы стоят. Отодвинула опять от себя сына, не насмотрится:
— Рожоное мое, — шепчет ласково и добавляет с упреком: — Для Руси ты князь великий, а для меня малый… Малай,[62] как татары говорят, совсем малай!
Нежные слова говорит Софья Витовтовна, а Ивану почему-то больно и обидно за отца. Никак он понять не может, отчего это он не умеет все сказать и сделать, как бабунька. У всех слова какие-то неверные, ничего от них не происходит, а у нее каждое слово, как топором вырублено. Скажет она, и другим больше говорить нечего.
Смотрит княжич на бабушку и на отца, и кажется ему, будто бы тот такой же мальчик перед Софьей Витовтовной, как и он сам. Горько это и непонятно Ивану, но некогда все уразуметь — опять чьи-то кони к хоромам скачут.
Взглянув на улицу, увидела старая государыня подъезжавшего к крыльцу Касима-царевича со своими нукерами. Отстранила она сына и сказала:
— Благослови Юрья, а потом гостей принимай своих. А яз прикажу к обеду накрывать в столовой избе.[63]