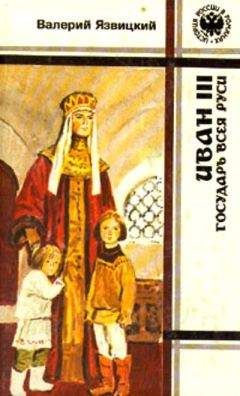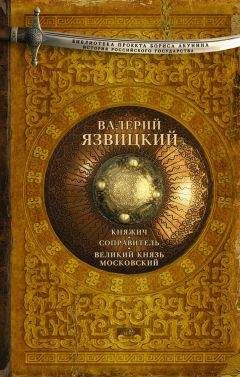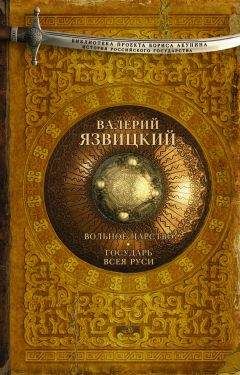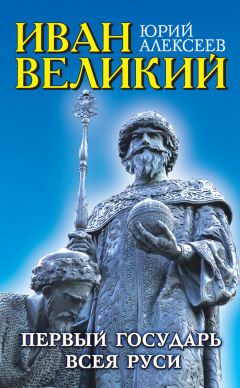— Все может Каин-братоубийца, — вскакивая со скамьи, еще яростней заговорил Шемяка. — В железы и меня он ковал, и кого хошь закует, ослепит и убьет из корысти и лютой злобы! Всю старину, отчину и дедину порушил! А вы, бояре тверские, и то доведите князю своему Борису Лександрычу, что Василий-то крест целовал царю Улу-Махмету отдать ему все княжение московское и все города и волости других князей! Сам же хочет он сесть на тверском княжении, князя вашего согнать, из Твери его выбить!..
Шемяка, позеленев весь от гнева, тяжело сел на свое место и жадно припал губами к стопе с медом.
— А татары? — спросил среди наставшей тишины молодой тверской купец Кузьма Аверьянов. — Не захотят они окуп из рук выпущать…
Насторожил всех этот разумный вопрос и смутил многих.
— Что с Василья берут, из того с нас вполовину возьмут, — ответил Никита Константинович, — а ежели и столько ж, за то не дадим мы поганым ни городов, ни волостей, наипаче княжеств своих!
Твердо и дерзко сказал это боярин Добрынский, а все сидят тихо, решенья в уме не имеют, смотрят на Шемяку, ждут, что скажет, но Димитрий Юрьевич не мог уж говорить более, и слово взял Иван Андреевич.
— Нам, князьям, — заговорил он, как всегда, вяло и лениво, но глаза его хитро выглядывали из-под одутловатых тяжелых век и бегали, как мыши, — всем нам, говорю, кто тут есть, надобно разумом добре все обмерить. Нас Москва давно уж слугами сделала, а ныне хочет и в рабство поганым отдать.
Вот в чем беда наша, а не окуп! Пошто нам окуп давать за Василья? Пусть в полоне будет! Вы же помыслите о собе, бояре, и гости, и купцы, и вы, отцы духовные! Всех нас, жен и детей наших, все именье, казну и все вотчины наши дает князь Василь Василич в руки агарян поганых на веки веков.
— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — воскликнул, вскакивая, сухой седобородый чернец, приезжавший недавно в Галич к Шемяке. — Братие и сынове! Се час наступи и в горести соедини сердца наши. Аз есмь раб божий Поликарп из Сергиева монастыря. Молю вас, братие и сынове, помыслите токмо о поругании святынь и храмов божиих! Осквернят агаряне сосуды и ризы церковные, захватят кресты и оклады златые, наложут на всех дани и выходы.
Поставят над нами, как при дедах наших было, баскаков, сборщиков, своих поганых мытарей! Ополчимся же на агаряны, прекратим свои распри, братоубийства и разорение, яко же…
Монах неожиданно смолк, так как боярин Никита Константинович, ущипнув его, дернул за рясу. Отец Поликарп понял, что говорит не то, что надо, и, переменив мысль, заговорил с новым пылом:
— Смирим мышцей своей братоубийцу Каина, князя Василья, Иуду, предающего церковь Христову!..
— В железы Василья окаянного! — перебил монаха неистовым криком Иван Федорович Старков. — В заточенье навеки, а перед тем ослепить, как ослепил он князя Василья Косого!
Дрогнули все от всполошного крика, гулом и гомоном загудела передняя Шемяки, словно осиное гнездо разворошили, и жужжит все вокруг злом, наливается ядом.
Иван Старков стоит молча и всех зорко острым взглядом осматривает.
Потом, когда все понемногу стихли, выйдя из-за стола, обернулся он к Шемяке и поклонился ему до земли.
— Челом бью тобе, князь Димитрий Юрьевич, от всей Москвы. Приходи и садись на великокняжий стол, а мы тобе ворота в Кремль со звоном церковным отворим! Спаси нас от горестей и поношений, от живота подъяремного, от ига поганых татар и от слуги их Василья!..
— Поспешим же в крестовую, — тоже встав из-за стола, громко и властно молвил князь Иван Андреевич. — Крест поцелуем великому князю московскому Димитрию Юрьевичу на рать идти под его рукой против безбожных татар и Василья. Боярин же Никита Костянтиныч подробно расскажет потом кажному, что и как надлежит деяти к пользе нашей…
После утверждения целованием крестным на согласье и помощь друг другу развели слуги дворские на покой до завтра бояр, воевод, гостей и купцов по княжим и боярским хоромам, а духовные, у попа, у дьякона и у дьячка разместились по чину своему и по знакомству.
Хотел было и Бунко уйти вместе с другом своим тверским купцом Аверьяновым, да князь Иван Андреевич задержал его.
— Повремени малость, Семен Архипыч, — сказал он, — нужен ты будешь государю Димитрию Юрьичу.
Бунко стал у дверей передней, шепнув Аверьянову:
— Обожди, Михайлыч, на княжом дворе, я вборзе управлюсь.
— Приходи лучше к вечерне, — ответил Аверьянов, — буду я у правого крылоса, помолимся вместе, а почивать к Федорцу пойдем. Моим гостем будешь…
Племянник родной Кузьме Михайловичу Федорец-то. Кузницу свою в Рузе держит — для дяди из серебра работает со своими подручными по мелочи всякой: кольца, серьги, крестики тельные, а главное — блюда, чарки да ложки серебряные и оловянные льет и кует для простого звания. Идет это все на ладьях Аверьяновых из Твери и вверх и вниз по Волге и по притокам ее во все стороны. У мордвы, у черемисов, у чувашей да у булгар и югорцев с большой выгодой приказчики Аверьяновы меняют эти товары кузнецкие на меха всякие: лисьи, собольи, бобровые, горностаевые, куньи, беличьи, пардусовые и прочие…
Вспоминает обо всем этом почему-то Бунко, словно отогнать мысли хочет о том, что видел и слышал. Думает, что Шемяка ему делать прикажет, путается все в голове, и сомненья берут — лихим и неправедным многое теперь ему кажется. Службу свою в Москве у великого князя вспомнил.
— Душу хочу тобе открыть, Михайлыч, — шепчет он на ухо Аверьянову.
— Жду тобя, друже, — отвечал тот уныло, — болит и у меня сердце…
Остались в княжой передней только оба князя, боярин Никита Константинович да гость богатый московский Иван Федорович Старков.
— Все ли верно, что ты сказываешь, Иван Федорыч? — услышал Бунко слова Шемяки.
— Верно и неверно, — с усмешкой ответил Старков, — а мы по-купецки: не обманешь — не продашь!
— Не бойся, государь, — воскликнул Никита Константинович, — задавим Василья, не вырвется!..
— Вот вызнать бы токмо, как Борис Лександрыч тверской мыслит? — медленно молвил князь Иван Андреевич. — Захочет ли он с Васильем напрямки в лоб биться?
— Помогать-то будет, — уверенно сказал Шемяка. — Пособит втайне, как ране брату моему пособлял, и коней он ему давал против Василья и доспехов на триста конников. Не менее нас, чай, разумеет, что податься нам некуда.
Коли не ослабим князей московских, они не токмо нас, но и его сожрут…
Оглянувшись, увидел Шемяка Бунко и весело спросил князя Можайского:
— А сей человек и есть Бунко, который у тобя гонцами твоими ведает?
— Он самый, государь, — оживился Иван Андреевич, — через него яз с тобой ссылался. Добре нарядил он вестовую гоньбу, особливо в Москву. От Можайска до первого стана скакал мой гонец тридцать верст за един гон в два часа, а потом другого коня брал и в сей же часец скакал до Звенигорода. А там встречал его гонец из Москвы. Мой гонец ко мне скакал с вестями от Ивана Федорыча, а московский-то, вести от моего узнавши, обратно в Москву гнал. Так яз из Москвы, а Старков от меня всё в един день ведали.
— А ныне нам, государь, — вмешался Старков, — и того нужней борзость в вестях. Прикажи Бунко и у нас гоньбу добре нарядить. Поимать надо Василья нечаянно, дабы ни народ, ни бояре того не ведали.
— А Москву и того ране захватить надобно, — резко крикнул Шемяка, — казну Василья поимать, его именья, княгинь…
— Обмыслено все, государь мой, — сказал Никита Константинович, кланяясь, — не гребтись о сем, государь. Ведомо мне от чернецов сергиевских, что Василий-то хочет ко гробу преподобного ехать…
Боярин смолк, поймав предостерегающий взгляд Старкова, и, откашлявшись, продолжал:
— Наряжено все у меня для Бунко — и кони и гонцы. Надобно нам ныне же, государь, от Рузы до Звенигорода…
— Завтра к тобе, Никита Костянтиныч, Бунко придет после обеда, — перебил боярина Шемяка, — а ныне нам много еще делов обсудить надобно: и что удельным, и что монастырям дать, и, особливо, что великому князю тверскому дать, — захочет ведь он кусок пожирней всех…
— Ин, Архипыч, иди, — быстро обернулся к Бунко князь Иван Андреевич, — послужишь нам верой и правдой, будут у тобя угодья разные и казной тобя пожалуем, детям и внукам хватит…
Поклонился Бунко и вышел.
Сидя за ужином в покоях у племянника Аверьянова, говорил Бунко другу своему Кузьме Михайловичу с печалью:
— Все у них купля и продажа, а о Руси и христианстве забыли…
— Князи наши будто и не государи, — отвечал ему Кузьма Михайлович, — а попы да монахи будто и не отцы духовные, а как мы — купцы, торговцы грешные, для-ради поживы.
Задумался горько Бунко и молвил тихо:
— Ныне я, как просо меж двух жерновов. Мелют и мелют жернова-то, кожу с меня сдирают, а кому я на кашу попаду, о том и не ведаю. Отъехал я от Василья, от лютости нрава его ушел. Убил бы меня насмерть, ежели бы государыня Софья Витовтовна тут не случилась. Ярый зело князь-то Василий, да Москва-то о всей Руси печется, а эти два о собе токмо…