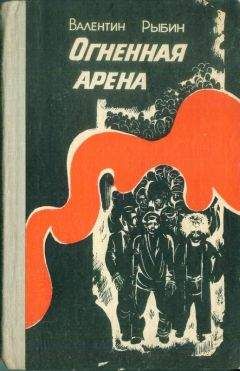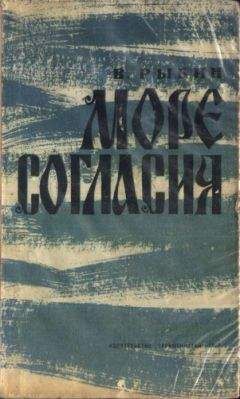Солдаты тем временем подошли ближе. Вот уже стало видно: идут без оружия. Шагающий впереди поднял в знак приветствия руку и прокричал:
— Генацвале, свои мы!
— Вахнин, Асриянц, ну-ка, пошли со мной, — пригласил Нестеров и двинулся навстречу солдатам. — Кто такие? — полюбопытствовал он.
— Кацо, свои, — ответил испуганно горбоносый, с черными усиками, грузин. — Свои мы! А вы тоже испугались? На маевку мы. Нам нужен Нестеров.
— Не по тому адресу! — все еще опасаясь подвоха, ответил Нестеров. — Если хотите сыграть в очко — пожалуйста.
— Кацо, нам сказали, маевка — на Асхабадке, — со злостью проговорил солдат. — Там, мол, найдёте Нестерова.
— А откуда вы знаете Нестерова?
— От кизыларватцев знаем… От Батракова.
— Ну с этого бы и начинали, — облегченно вздохнул Иван Николаевич. — Я и есть Нестеров.
— А я — Метревели, — назвался солдат. — Мы организовали группу эсдеков. Держим связь с кизыларватским железнодорожным батальоном… А там нам говорят: «Вам надо связаться с Нестеровым и на правах автономии войти в асхабадскую РСДРП!»
— Ясно, — сказал Нестеров. — Давайте шагайте, продолжим разговор.
Прошло ещё с полчаса, прежде чем рабочие успокоились и познакомились с солдатами Первого Закаспийского железнодорожного батальона. Когда все вновь уселись, Нестеров обратился к собравшимся:
— Кровью борцов за народное дело обильно политы нивы пахарей и улицы городов. Их святая кровь и стоны павших товарищей взывают об отмщении! Напоминают о святом долге довести до конца правое дело освобождения нашей многострадальной родины! Сила в вас самих! Сила в вас несокрушимая, только вы еще не осознали ее!.. Помните, товарищи, что мы ничего не теряем в этой борьбе, кроме своих цепей, а завоюем целый мир!
— Да здравствует Первое мая!
— Да здравствует социализм!
— Да здравствует 8-часовой рабочий день!
— А теперь, товарищи, прошу высказываться, — закончил он, садясь рядом с Метревели.
Начались выступления. Сначала говорили деповцы, потом выступил от организации РСДРП батальона Метревели.
— Как тебя зовут-то, парень? — спросил Нестеров, явно растроганный речью Метревели, назвавшего солдат пролетариями в военной робе.
— Ясоном меня зовут, — отозвался тот. — Я грузин, из Тифлиса.
— Сколько у вас партийцев?
— Двенадцать человек.
— Завтра же выбери время и найди меня. Зайдешь в редакцию газеты «Асхабад», спросишь, там скажут, где я.
— Хорошо, товарищ Нестеров…
* * *
Суд над группой Стабровского проходил в офицерском клубе, при закрытых дверях: в судебный зал были допущены лишь избранные лица — высшие чины областной канцелярии, асхабадского уезда, прокуратуры, полицейского управления. Что касается общественности, то в зал удалось проникнуть лишь редакторам двух газет «Закаспийское обозрение» и «Асхабад». Толпы народа, собравшиеся у входа в клуб, тщетно пытались попасть в зал: вход и окна охранялись военной стражей.
Среди любознательной публики особо выделялись армяне, Не менее сотни парней в белых рубахах с кручеными поясками, в бархатных куртках и плисовых штанах толпились вокруг свидетеля Арама Асриянца, которого по праву считали первым другом Людвига Стабровского.
Суд начался в десять утра и лишь к двум часам дня, когда некоторые присутствующие на суде стали выходить на перекур, стало известно, что обвиняемые всё отрицают и беда лишь в том, что есть показания свидетеля Мартыненко, который, якобы, собственноручно от Хачиянца получил прокламации.
В толпе слышались возмущенные голоса:
— Ай, один вонючий козёл всё стадо портит!
— Убивать надо предателей!
— Ара, э, кто такой Мартыненко?
— Да сбежал давно куда-то, в Россию, что ли!
Толпа еще больше увеличилась и оживилась, когда после занятий к офицерскому клубу пришли гимназистки-старшеклассницы. Среди них были Аризель и Тамара Красовская. Барышни посуетились, порасспрашивали о ходе суда, затем, оттеснив армян, выстроились у входа и принялись скандировать:
— Сво-бо-ду Стабровскому!
— Сво-бо-ду заключенным!
— Сво-бо-ду всем!
Из зала вышел редактор газеты «Асхабад». Несколько армян сразу кинулись к нему. Любимский, в белой шапочке-панамке и белой рубашке, остановился на крыльце, вытер пот с лица.
— Что вже вы хотите от меня? — спросил устало. — Если вы хотите самую суть, то я скажу! Они ведут себя, как настоящие герои!
— Душа любезни, только не темни, — сказал один из армян. — Скажи, душа любезни, сколько дадут, а?
— Я вже разве пророк? — бойко отвечал редактор. — Сколько дадут — все им достанется. Вы, вже, молодой человек, не станете с ними делить их срок?
Армяне засмеялись. И ещё больше пришли в волнение, когда из зала вышел священник Гайк.
— Дорогой отец, ну что там, есть какая-нибудь надежда?
— Тот не живет, кто не надеется, — отозвался он важно. — С участием господа бога все образуется.
Солнце уже клонилось к закату, когда, наконец, был вынесен приговор:
«…Признавая дворянина Людвига Людвигова Стабровского, крестьянина селения Керкендкс, Шемахинского уезда, Аршака Михайлова Хачиянца и тифлисского мещанина Ивана Андреева Егорова виновными в преступлении, предусмотренном 129 статьей Уголовного уложения, заключить в крепость: Стабровского на два с половиной года, а Хачиянца и Егорова на два года каждого….
Дворянку Ксению Петровну Стабровскую как по этому обвинению, так и по обвинению в распространении противоправительственных прокламаций, признавая невиновной, считать по суду оправданной».
Приговор вызвал разноречивые толки. Тот, кто не сомневался, что группе Стабровского предстоит отправиться в дальний сибирский этап на каторгу, пришли В восторг:
— А, ерунда! — разносились голоса. — Два года отсидеть можно!
— Что такое два года?
Те, кто знал, сколько средств затратили эсдеки на спасение своего товарища, пришли в возмущение.
— Взяточники и обиралы! — неслось из толпы.
— Чтоб вам подавиться этими деньгами!
— Господин Любимский, душа любезни, напиши в газете, скажи сколько им заплатили!
— Что вже вы раньше думали? — спросил редактор. — Вы думали за какие-то шесть-семь тысяч они получат полную свободу? Тогда вы плохо знаете цену сибирской каторге!
Толпа постепенно рассредоточилась. Остались возле клуба лишь те, кто знал заключенных: Асриянц с сестрой и группой гнчакистов, Красовская, Андрюша Батраков… Нестерова тут не было. Он еще вчера, накануне суда, как юрист, пытался получить доступ в зал суда, но получил отказ. Находиться в толпе Нестеров счел неудобным.
Осужденных держали в зале до тех пор, пока не появилась повозка с черным кузовом, запряженная двумя дюжими лошадями. Остановилась она у самого подъезда. Людвига вывели конвоиры, — сначала Асриянц, а потом и Тамара крикнули ему, чтобы бодрился и не падал духом. Он попытался оглянуться, но полицейский толкнул его в спину. Аршак Хачиянц улыбнулся через силу, поднял руку и показал два пальца, что значило — получил два года. Егоров залез в кузов, не оглядываясь по сторонам. Ксения, оправданная судом, казалось, была не рада свободе. Она не могла осознать, как будет жить без Людвига. И на приветствие Тамары сухо ответила:
— Что же ты раньше не могла навестить?
— Ксана, милая, я пыталась много раз! Пыталась, понимаешь?!
— Ладно уж… Я завтра приду домой, — устало сказала Ксения и, увидев радостно улыбающегося Асриян-ца, попросила: — Арам, если сможешь, приезжай на фаэтоне.
— Какой может быть разговор, Ксана!
Тут она скрылась в фургоне. Конвоир затворил дверь и повозка двинулась в сторону тюрьмы.
На следующий день, в одиннадцать утра, когда Ксения вышла из тюремных ворот, фаэтон стоял на обочине. Тамара взяла под руку Стабровскую и словно больную повела к коляске.
— Боже, как голова кружится, — говорила та. — Я вчера вообще думала свалюсь с ног. Но что — я? Что — я? — тут же забеспокоилась она. — Людвига надо спасать! У него — чахотка… Открытая форма.
— Ксения Петровна, разрешите, я помогу вам сесть, — предложил Арам.
— Будь любезен. Признаться, я думала, что вы о нас совсем забыли. За четыре месяца ни одного свидания, ни одной передачи.
— Ксения Петровна, знали бы вы сколько мы хлопотали! — сказал Асриянц.
— Поверь мне, Ксана, я раз десять пыталась пробиться к тюремному окошку — и все тщетно.
Пока они вели разговор, фаэтон пересек железную дорогу и выехал на Гоголевскую. Тут, как только приблизились к Куропаткинскому проспекту, из армянской церкви вышли монахи. Священник Гайк подошел к остановившемуся фаэтону, слегка поклонился Стабровской и осенил ее крестом:
— Дочь моя, я сделал все возможное, чтобы уберечь вас от сибирской каторги.