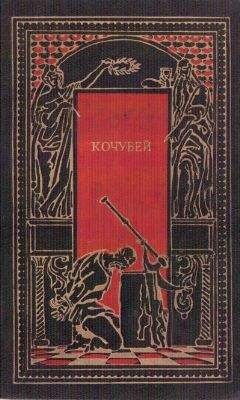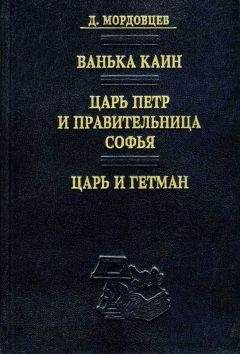— Алёшенька! Постой! Подойди ко мне, — заговорила торопливо Софья, увидав, в каком нравственном состоянии находится несчастный царевич. — Ты хочешь с матерью повидаться?
Алексей, по-видимому, не понимал её, в этот момент он переживал разлуку с матерью. Софья встала и подошла к нему. Положив левую руку на плечо юноши, она правою перекрестила его.
— Ты веришь мне, тётке своей, друг мой? — спросила она тихо.
— Верю, тётя, — отвечал юноша, по-видимому, ничего не понимая.
— Я люблю твою мать, она добрая, тихая, и тебя люблю... И её, и меня взыскал Бог: ей, по великой благости своей, меня по грехом моим великим, за гордость мою... Я искала венца царского, тленного, а Господь судил мне венец терновый, буди благословенное имя Его святое! Я заслужила сие терние колючее... А ты, отроча невинное, рано, ох, зело рано, украсил главу свою венцом терновым... это не твой венец; за чужую голову ты носишь его, и Господь наградит тебя венцом царским... А теперь мне жаль тебя: я хочу дать тебе утешение... Хочешь видеться с матерью?
— Хочу, — со страхом отвечал юноша.
— И соблюдёшь тайну от батюшки?
— Соблюду, видит Бог.
Софья подошла к небольшому, покрытому чёрным бархатом с золотом, аналою и открыла лежавшую на нём, рядом с золотым крестом, книгу.
— Клянись, — сказала она.
Царевич не знал, что отвечать. Он глядел то на строгое лицо тётки, то на недоумевающего учителя своего.
— Повторяй за мной, — сказала Софья. — Сложи персты вот так и повторяй за мною клятву.
Она показала, царевич повиновался.
— Аз, раб Божий, царевич Алексий, клянусь Всемогущим, в Троице славимым Богом пред святым его Евангелием и животворящим крестом Христовым...
— Аз, раб Божий, царевич Алексий, — повторял юноша дрожащим от страха голосом.
— Никому же не поведати тайны сея...
— Никому же не поведати тайны сея, — трепетно повторялась клятва.
— Аще же я о сём клянусь ложно, то да буду отлучён от святыя единосущным и нераздельныя Троицы, и в сём веце и в будущем не иму прощения...
— Не иму прощения...
Голос Софьи всё мужал и становился грозным, пугающим. Голос царевича с трудом выходил из горла, перехватываемого судорогами...
— Да трясусь, яко древний Каин, и разверзнувшися земля да пожрёт мя яко Дофона и Авирона...
— ...пожрёт мя яко Дофона и Авирона...
— И да восприиму проказу Гиеззиеву, удавление Иудино и смерть Анании и жены его Сапфиры...
— ...удавление... смерть Анании...
Царевич повторял каким-то удушливым, обморочным голосом, весь дрожа и шатаясь...
— И часть моя будет с проклятыми диаволы, — глухо выкрикивала Софья.
Царевич не кончил клятвы... Он зашатался и упал на пол.
На другой день поле всешутейшего собора царь уже скакал на север, к морю, к дорогому, недавно только приобретённому клочку земли, который непосредственно соприкасался с этой, неоценимой никакими сокровищами мира стихией, с горькою, как горе людское, и солёною, как их слёзы, морского водою, открывавшею ему путь во все концы вселенной. В Москве он чувствовал себя неспокойно, тоскливо. В Москве ничто не развлекало его, даже шумный всешутейший собор, на котором мысль его уносилась куда-то далеко-далеко — или к невозвратной молодости, которую словно бы украли у него с шестнадцати лет вместе с грёзами юности, а взамен их дали лишь корону и тяжёлую порфиру, или к неведомому, но полному славы и величия будущему. Ему всё казалось, что и этот дорогой клочок земли, этот лучший алмаз в его короне украдут так же, как украли его молодость с её золотыми грёзами, и оставят его опять с одной Москвой, этой постылой старухой, и улыбки, и ласки, и приветствия которой ему опротивели до тошноты, как ласки постылой, заточенной им в монастырь Авдотьи-царицы.
Для скорости он взял с собою только Меншикова да Павлушу Ягужинского. Дорога от Москвы-реки, этой грязной клоаки, в которой не только ему, гиганту, но и воробью по колена, дорога от Москвы до Невы многоводной казалась ему нескончаемою. На всех ямах ставили под царя лучших лошадей — чертей-коней; на козлы садились ямщики, которые могли перегоняться с ветром и птицею; а царь всё торопил коней до загона, ямщиков до одури.
— Когда же это люди дойдут до того, что летать будут?— говорил он как бы про себя, глядя в синюю даль.
— Дойдут, государь, скоро, — отвечал Меншиков, зная, что отвечать надо было во что бы то ни стало, как бы ни был замысловат вопрос.
— А когда? — нетерпеливо добивался царь.
— Когда больше будет таких царей, как ты.
Царь улыбнулся. Он знал грубую, топорную, подчас ловкую находчивость своего Алексашки.
— Не царей... Одних царей для сего мало, — сказал он раздумчиво, — а когда все будут работать, как их царь... Вон мозоли.
И он показал широчайшую, массивную ладонь, загрубелую, покрытую мозолями.
— Это не мозоли, государь, а камни многоцветные, — тихо сказал Меншиков.
Павлуша Ягужинский, сидевший в том же экипаже, по-видимому, не слушал, что говорил царь с своим любимцем. Но это только так казалось: у Павлуши был слишком музыкальный слух, который схватывал не только слова царя, но и нервную музыку его голоса, и в то же время слышал свист встречного воздуха... Только глаза его задумчиво бродили по отдалённым предметам, видневшимся на горизонте, а мысль по временам забегала далеко на юг, в сад Диканьки, где ему предстало видение в цветах...
— А ты как думаешь, Павел, будут люди летать? — обратился к нему царь.
— Будут, государь, — отвечал юноша, скользнув своими мягкими глазами по стальным глазам царя.
— Почему ты сие знаешь?
— Потому, государь, что люди умнее птиц.
— Хвалю, умно...
Царь несказанно радовался, снова увидав Неву и возникающий город, любимое детище его сердца. Словно из-под земли вырастали крепостные стены. Гранитные плиты точно сами собой громоздились одна на другую... Нет, не сами собой... Вон весь невский берег усыпан человеческими телами, прикрытыми... серым, бесцветным, безобразным лохмотьем... То рыжая, никогда ничем, кроме корявых пальцев, не чёсаная борода торчит к голубому, хотя северному, но теперь душному, морящему небу; то печётся на жарком солнце, вся в пыли от щебня, косматая голова, которая всего раз, только в купели, была дочиста вымыта, а потом было некогда мыть её; то глядит на это жаркое солнце голая коленка сквозь продранные порты; то истрепавшийся лапоть, столь же чистый, как прибрежная грязь, отдыхает после каторжной гонки с берега на крепостную стену, со стены в сырую канаву... Эта серая куча тел человеческих, зипунов, лаптей, тачек, лопат, рогож изодранных рубах и портов, это титаны, воздвигающие новую столицу своему великому царству, титаны, которые, похлебав чистой невской воды с нечистыми сухарями, теперь отдыхают в жаркий полдень под стенами возводимой ими крепости.
А немного выше возводимой гранитной твердыни уже высится небольшая, наскоро сколоченная деревянная крепостца с шестью бастионами.
— Это первое логовище медведя, — весело сказал царь, стоя на одном из бастионов.
— Российский Капитолий, государь, — подсказал находчивый Павлуша, который прилежно читал историю.
— Так, так, Павел, и гуси в нём будут?
— Не знаю, государь.
— Я сюда из Москвы навезу гусей в бородах, пускай не спят по ночам, как те гуси, что Рим спасли, да стерегут мой Капитолий... А кто ж у нас Манлием будет, ты, Данилыч?
Меншиков не нашёлся, что отвечать, как ни был находчив: он не знал истории.
— Чем государь изволит указать быть, тем и буду, — уклончиво сказал он.
— А ты знаешь, кто был Манлий Капитолийский? — спросил царь.
— Не знаю, государь.
— Ну, да тебе не до ученья было... Ты у меня и без того молодец... Прежде сего ты знал токмо «пироги-горячи», а ныне мы с тобой «законы горяченьки» печём... Я назначаю тебя губернатором сей новой моей столицы.
Меншиков стал на колени и поцеловал руку царя.
День был ясный, жаркий. Широкая лента голубой воды катилась под ногами царя, у стен бастиона. Видно было ровное Заневье с зелёными лугами, окаймлёнными тёмным бором; Заневье, со стороны крепости, где ныне Адмиралтейская сторона. Всё это было пустынно, мрачно. Острова также представляли собою глухую лесную пустыню... Задумчиво глядел царь на открывавшиеся перед ним виды...
— Россия будет вспоминать Петра вот на этом самом месте... Коли Бог благословит мои начинания, я сюда перенесу престол царей российских: и будет шум жизни и говор людской, идеже не бе. Храмы и дворцы воздвигнутся, идеже мох один зеленеет... Будет на сём месте новый Рим, и память о Петре пронесётся из рода в род.