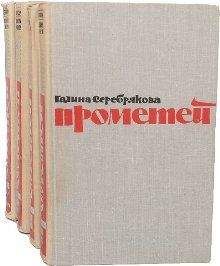Маркс давно отложил газету и, опершись головой на руку, то ли слушал, то ли думал о чем-то.
— Распростерт на высокой скале, — продолжал Энгельс громче, — пригвожден и опутан оковами Прометей. Жгут его тело палящие лучи солнца, проносятся над ним бури, по изможденному телу хлещут дожди и град, зимой леденящий холод сковывает искалеченное тело. Каждый день громадный орел прилетает и садится на грудь Прометея и рвет клювом его печень. Потоками льется кровь, обагряя скалу. За ночь заживают раны и вновь отрастает печень, но утром прилетает орел и клюет ее снова. Многие сотни лет длятся эти муки, но не сломлен гордый дух Прометея страданиями. Бессильны перед ним его лютые враги.
— Какая страшная сказка! — говорит Лаура.
— А за что приковали Прометея к скале? — спрашивает Женнихен, блестя черными, в голубой оправе белков, такими же яркими, как у отца, глазами.
Муш силится понять сказку и напряженно морщит лобик.
— Могучий Прометей, вопреки воле Зевса, похитил с божественной горы Олимп небесный огонь и передал его людям, — продолжает Энгельс. — Полудикие, жалкие, несчастные люди благодаря огню обрели письменность, числа и ремесла. Прометей, принес им счастье и подорвал безграничную власть над человеком мстительных богов.
За помощь сильную
Главарь богов неистовыми пытками
Мне отомстил наградою чудовищной, —
декламировал Фридрих строфы из Эсхилова «Прикованного Прометея».
Ведь такова болезнь самодержавия:
Друзьям не верить, презирать союзников,
Вы спрашивали, почему постыдно так
Меня калечит, — ясный дам, прямой ответ.
Едва он на престол сел родительский,
Распределять меж божествами начал он
Уделы, власти, почести: одним — одни,
Другим — другие. Про людское горькое
Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род
Людской замыслил, чтобы новый вырастить.
Никто за них не заступился, я один!
Один лишь я отважился! И смертных спас!
Энгельс помолчал.
— Вот что еще говорил Прометей, — сказал он затем: — «Я людям подарил огонь…»
Женнихен протянула ручки к камину.
— Он стащил с неба огонь? — сказала она, удивленно вскинув вверх черные ресницы. — Но как стали бы люди жить без него? Они замерзли бы, наверное?
Никто ей не ответил. Муш дремал на руках Энгельса. Лаура прикорнула, положив голову на его колено. И Женнихен одна, пораженная загадочной сказкой, смотрела не мигая в пасть камина. Ей казалось, что сквозь пунцовые языки пламени она видит распластанное тело Прометея, которое разрывает острый птичий клюв.
В тихой комнате снова зазвучал мужественный голос Энгельса. Он продолжал читать наизусть столь любимые Марксом и им стихи Эсхила:
… Врагу от врагов
Казнь и муку терпеть — в этом стыдного нет,
Ну так пусть двухлезвийные кудри огня
В грудь мне ринутся, в клочья пускай разорвут
Воздух — громы и дурь сумасшедших ветров!
Пусть тяжелую землю до самого дна,
До кремнистых корней потрясет ураган.
Пусть в кипенье и бешенстве хляби морей
Вперемежку сплетутся с дорогами звезд.
Пусть швырнут мое тело в бездонный провал
Чернокрылого тусклого Тартара, пусть
Заклубит меня круговерть медной судьбы,
Умертвить меня все же не смогут!
Энгельс опустил глаза и увидел, что только Женнихен по-прежнему жадно слушала, раскрасневшись, миф о Прометее. Муш и Лаура тихо спали.
— Несчастный титан. Неужели всегда Зевс будет его так жестоко мучить? — спросила Женнихен испуганно.
— Прометей — огненосец и провидец. За это-то больше всего и ненавидел его злобный бог. Прометей предсказал, что Зевс должен погибнуть.
Пускай сейчас надменен Зевс и счастьем горд,
Смирится скоро!..
…Пускай царит, небесными гордясь громами.
Пускай царит,
В руке стрелою потрясая огненной!
Нет, не помогут молнии. В прах рухнет Зевс
Постыдным и чудовищным крушением.
Соперника на горе сам себе родит,
Бойца непобедимейшего, чудного!
Огонь найдет он гибельней, чем молния,
И грохот оглушительнее грома гроз…
И содрогнется в страхе Зевс.
Наступило молчание. Затем, улыбнувшись широкой ласковой улыбкой, Фридрих продолжал, обращаясь к своей единственной слушательнице:
— Запомни, малютка, Прометей был великий и благородный мученик, как сказал некогда наш Мавр. Он принес себя в жертву потому, что больше всего на свете любил людей. Ничто и никто не мог сломить его волю. Только божественный огонь мог принести счастье людям. И раз боги не отдали добровольно, Прометей его похитил.
Тринадцатого апреля, после нескольких дней пребывания в столице, Фридрих уехал в Манчестер. А днем позже в тяжких страданиях умерла маленькая дочь Маркса.
Снова светило лондонское солнце сквозь прозрачную дымку. Наступила пасха. Продавщицы цветов вывезли на улицы тележки с букетиками разноцветных голландских тюльпанов и серебристых нарциссов. Звонили колокола. В сквере Сохо зеленела свежая трава, веселились воробьи. Только в квартирке на Дин-стрит, 28, стало еще мрачнее. Крохотное бездыханное тельце умершей покоилось в маленькой комнате. Трое детей и трое взрослых горько оплакивали Франциску.
Смерть вошла в дом, где господствовала нищета. Ленхен первая, со свойственной ей трезвостью и силой перед лицом всяких страданий, вспомнила о том, что нужен гробик, но в кошельке Маркса не нашлось ни гроша для его покупки. Эрнест Джонс хотел достать денег, но и ему это не удалось. Мертвое дитя, у которого никогда не было при жизни колыбельки, лежало на столе, не имея последнего прибежища. Ночью вся семья укладывалась вместе в соседней комнате.
Будущее не предвещало им скорого избавления от страшных лишений. Закрыв глаза, без сна лежала Женни возле своих детей. Мысли, одна мрачнее другой, возникали в ее утомленном мозгу. Что будет с Мушем? Не по летам развитой, необыкновенно одаренный мальчик заметно слабел, прозрачно бледным было его личико, темные круги лежали вокруг прекрасных, глубоких, полных мысли глаз.
Женни поднялась с постели, похожая на смелую прекрасную орлицу, готовую погибнуть, но спасти своих птенцов. Дети спали. Стараясь не разбудить мужа и Ленхен, со свечой в руке прошла она в соседнюю комнату, где лежало уже три дня ее мертвое дитя. Здесь в полном одиночестве, окаменев от горя, глядя без слез на застывшее белое личико, она вдруг вспомнила Трир и огромный сад с беседкой, обвитой виноградными лозами, где так любила сидеть в знойный день ее мать, баронесса Каролина фон Вестфален. Девочка, бегавшая среди цветов в белоснежном платье с оборками и бантами, похожими на стрекоз, веселая, нарядная, неужели это была она? Если бы Муш, Лаура, Женнихен росли в достатке, если бы маленькая Франциска и бедный Фоксик резвились в старом вестфаленском доме, может быть, смерть не осмелилась бы приблизиться к ним.
Больному воображению Женни послышались звуки музыки. Кто это играл обычно Моцарта на белом клавесине в зале, убранной в шотландском стиле? Это ее брат. Теперь Фердинанд фон Вестфален стал чванным прусским министром. Он богат, но никогда сестра не обратится к нему за помощью.
Снова далекий Трир приблизился к Женни. Как беспечно начиналась ее жизнь в отчем доме! Вот и платан на Римской улице, свидетель счастливых свиданий. Часто стояла она в его тени, слушая Карла. Впереди, казалось ей тогда, была одна только радость. Женни закрыла лицо руками.
— «Нет горя горше, чем в несчастье о счастии минувшем вспоминать», — прошептала она слова поэта.
В это время знакомая, бесконечно дорогая рука легла на ее плечо.
— Карл, — прошептала она вошедшему незаметно мужу, — мне трудно, невыносимо. Как нам быть дальше? Поддержи меня, я слабею. Сколько раз ты уже возвращал мне силы. Откуда только ты их черпаешь?
— Это и есть жизнь, Женни. Будем сильны в час испытаний. Рождение и смерть чередуются и неизбежны, как ночь и день, покой и буря, прилив и отлив.
— Пусть мы только однодневки на земле, — печально сказала Женни, — но все-таки дороже всего для нас дети. Скоро ли наступит время, когда на свете не будет больше столь несчастных, как мы о тобой, родителей, которым не на что похоронить своего умершего от бедности и лишений младенца?
Немного успокоив и уложив жену, Маркс подошел к чуть тлеющему камину и закурил. Скоро горка окурков выросла в пепельнице. Он взволнованно зажигал и раскуривал одну за другой тонкие пахитоски. Мысли, тяжелые, как жизнь на Дин-стрит, давили его. Облокотясь головой на крепкую руку, Карл думал о том, имел ли он право обречь на столь тяжкие испытания Женни и детей. Может быть, следовало, избрав столь тернистый боевой путь, идти в жизни одному?