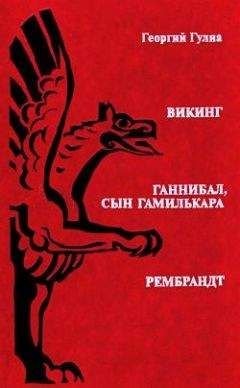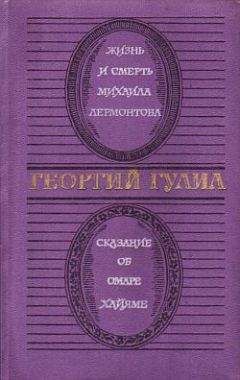Неожиданно художник преобразился. Его словно волшебным образом подменили: заулыбался, протянул руки – весьма дружески, чертыхнулся – грязные, мол, руки, в красках они…
– Пожмите мне локоть, господин капитан. И, пожалуйста, присаживайтесь. Вон на ту скамью.
Рембрандт вытер руки сухой тряпкой, пожаловался на усталость.
– Я не отходил от мольберта весь день, – проговорил он хрипловатым, простуженным голосом.
Баннинг сказал:
– Доктор Тюлп считает вас здоровяком.
Художник махнул рукой.
– А мне советует больше отдыхать.
– Он прав, господин ван Рейн. Даже лошадь и та нуждается в отдыхе.
– А работа? – вдруг вспылил художник. – Кто писать будет? Кто сделает за меня? Спрашиваю: кто? Я с удовольствием уступлю на время кисть другому, но с одним условием: чтобы работу мне самому не пришлось переделывать.
Рембрандт сдвинул набекрень берет и упер руки в бока.
– Мы, военные, – сказал Баннинг Кок, – тоже считаем, что надо отдыхать вовремя. Даже в бою. Чтобы вернее побеждать.
Художник нахмурился.
– Сколько вам лет? – спросил он.
Капитан ответил.
– Я на год старше вас, – сказал Рембрандт. – Старик уже. Тридцать шесть – не двадцать шесть. Тогда я не знал усталости.
Капитан настаивал на своем: художник достаточно здоров, вполне физически крепок и усталость его со стороны не замечается.
Капитан говорил, а Рембрандт с интересом его разглядывал. Он уже не слушал, только напрягал зрение и ходил перед Баннингом, изучая его с разных сторон.
– Послушайте, господин Баннинг Кок, – сказал художник, – а ведь вы нравитесь мне. Я, пожалуй, возьмусь писать портрет вашей роты…
– Затем я и явился, – сказал капитан.
Художник велел служанке принести холодного пива. Уселся в глубокое кресло.
– Доктор Тюлп ничего не говорил о моих странностях?
– Нет, – сказал Баннинг.
Рембрандт задумался.
«Слишком простоватое лицо, – сказал себе капитан. – Руки молотобойца. Спина грузчика».
– Я в работе не жалею себя, капитан…
«Разумеется, сын мельника таким и должен быть. Ведь приходилось таскать мешки…»
– Не жалея себя, я соответственно отношусь и к тем, кто позирует мне…
«Такой способен ворочать мельничное крыло вместо ветра…»
– Одна дама даже в обморок упала…
«В нем чувствуется потомственный лейденский мельник. Там чертовски злые ветры. Там требуются особая сноровка и знатная сила…»
– Чем человек богаче, тем он нетерпеливее, господин капитан. Слышите?
– Да, конечно, слышу.
– И что скажете на это?
– Они бывают разные.
– Хорошо! – Рембрандт шлепнул себя ладонями по коленям. – Допустим, все терпеливы… Но вас предупредили, что за работу я беру дорого?
– Сказали.
– Вас это не смущает?
– Нет. Мы уже обсудили это меж собой.
– Где?
– В роте.
Рембрандт встал.
– Вы могли бы пройти сюда, господин капитан?
– Разумеется.
Художник подвел его к окну. Взял лист белого картона и несколькими штрихами набросал портрет капитана во весь рост.
– Как? – спросил Рембрандт, показывая рисунок.
– Просто богатырь… – весело заметил Баннинг Кок.
– Вы и есть богатырь.
На прощанье Рембрандт сказал:
– Выпьем за дружбу. Но вы с друзьями подумайте: найдется ли терпение и достанет ли флоринов? Ладно?
– Господин ван Рейн, я учту все, обо всем доложу роте. Однако могу сказать заранее: мы примем все ваши условия.
– Пора обедать, – сказала Саския, входя в мастерскую.
Она выглядела неважно. Беременность всегда приносила только горе. Что ждет ее на этот раз?
Художник замечал в ней малейшую перемену. Вопреки успокоительным заверениям докторов Тюлпа и Бонуса, Саския и сейчас походила на ту Саскию, которая ждала Тицию. И ничего обнадеживающего в ее глазах, на ее щеках и побелевших губах. Однако держалась она, что называется, изо всех сил.
Он сделал широкой кистью мазок и отложил палитру в сторону.
– Я сказал Болу, чтобы он подготовил холст. Очень большой. Он не поместится на этой стене.
– Зачем такой? И где ты будешь писать?
– На складе.
– Что-нибудь особенное?
Художник улыбнулся.
– Угадай – что?
Саския вышла на середину комнаты.
– Это связано с визитом господина Кока?
– Угадала! Групповой портрет его роты.
– Это хорошо. – Саския никогда не говорила: «Это плохо» или «Этого делать не надо». Она всегда кивала ему.
– Да, но ты не можешь вообразить, что это будет. Я сделаю нечто. Вот увидишь! Как бы это сказать?.. Посмотрел я на капитана. Вообразил его бойцом, идущим против испанцев и возглавляющим стрелков. Что скажешь?
– Ты уже получил первый взнос?
– Нет, Саския. Но денежки принесут. Как миленькие. Они очень хотят иметь портрет. И я выдам портрет… Послушай, ведь это должны быть герои, правда?
Саския удивилась:
– Все до единого герои?
– Все!
Рембрандт подбежал к стене, сделал широкий круг рукою.
– Вот идут стрелки́. Представляешь? Те самые, которые сбросили испанцев. Или очень похожие на них потомки. Это все равно. – Художник воодушевился. – Групповой портрет… То есть портрет всей роты. Всей роты, которую ведут на врага… Понимаешь? На врага! Они не сидят за столом. Не пьют. Не жрут. Но идут на врага! Они идут оттуда. – Рембрандт указал пальцем на пустую стену. – Они идут в боевом порядке. Их призывает долг. И они победят! Ну как?
Рембрандт даже вспотел, жестикулируя.
– Но ведь сейчас нет войны, – мягко сказала Саския.
Художник немного вспылил:
– Что с того? Ведь это же может случиться! Не сегодня, так завтра, а не завтра – так послезавтра. Рои должна действовать – я так понимаю. – Он резко отвернулся от стены, подбоченился, смерил жену с головы до ног. Сказал, чеканя слова: – Или, может, усадить их за стол и писать две дюжины лиц, выложивших свои флорины? Писать две дюжины сытых рож? Так, что ли?
Он уже не видел жены. Не с нею спорил. Не ей задавал вопросы. А кому-то другому. Невидимому. Саския даже подумала, что этот «кто-то» стоит за ее спиной.
– Послушай, брат, – говорит старичок на стене, – ты хорошо знаешь эту книгу. Ты не раз говорил о ней с пастором Сильвиусом. Один ученый еврей тоже толковал о ней. Ты помнишь это место о всаднике?
Старичок на кушетке стонет. Ему не до ученых текстов. И о какой книге идет речь?.. Вероятно, о Библии. Там много всяких мест, много притчей… Всадник? Это какой же?..
Со стены хитровато подмигивают.
– Не притворяйся, что запамятовал. Это дело очень важное, чтобы проходить мимо него. Так вот, речь идет о всаднике, за которым следует ад, ибо он, этот всадник, беспощаден. Вспомни-ка…
– Ах да! Разумеется, это о смерти. Верно, много было смертей. Всадник и в самом деле беспощаден. И конь под ним слишком горяч и слишком быстр…
Как будто недавно это было. Какая-то неведомая сила повелела: поезжай к матери в Лейден, посмотри на нее, порисуй еще раз! И он повиновался таинственному приказу и поехал. Что же он увидел неподалеку от знакомой мельницы? Старую, хилую мать, тяжело опирающуюся на палку. Больную Лисбет, постаревшего Адриана и старушку – уже старушку! – по имени Антье. Боже, как все переменилось! Нет, узнать своих можно, они вроде бы те же, но после изрядной разлуки руины особенно бросаются в глаза. Взять хотя бы силача Адриана. Ведь это уже не тот Адриан, который по два мешка солода взваливал себе на плечи. Совсем не тот! А что уж говорить о матери?..
– Сын мой, ты, сказывали, живешь в большом доме?
– Да, мама, в большом.
– А ведь большой дом требует больших расходов.
– Это верно.
– Женины деньги негоже транжирить. Они про черный день.
– Какой еще черный? – А сам думает: «Может быть более черный после малыша-сына и после двух ангелочков?»
Вот мать позирует ему. Уже который раз за все эти годы. Он одел ее в шелк и бархат, он украсил ее дорогими украшениями…
– На все это требуются деньги, – вздыхает мать.
Он накладывает на холст широкими мазками морщины и жилы на щеках и на руках…
– Надо поберечь деньги ради себя, ради своих сил.
Это ее философия. Старой мельничихи, которая только и делала на своем веку, что экономила каждый флорин. А сын, как видно, не очень силен в сложении и вычитании… А что же Саския? Она же должна думать, ей надо быть бережливой.
– И она тоже выговаривает мне, – замечает сын.
– Тут не выговаривать надо, а запрещать. Слышишь, Рембрандт?
Мать тяжело дышит. Ей очень трудно позировать.
– Может, достаточно?
– Еще немного, мама.
Он торопится.
Все та же неведомая сила торопит его…
Лисбет удивляется:
– Какой же это по счету портрет?
– Мамин?
– Да, ее?
– Не считал. За мной еще и ваши портреты…
Мать спрашивает:
– Твоя жена не ждет ребенка?
– А что?
Вот удачный момент: он схватывает блеск ее старческих глаз, увядшие губы и гусиный подбородок…