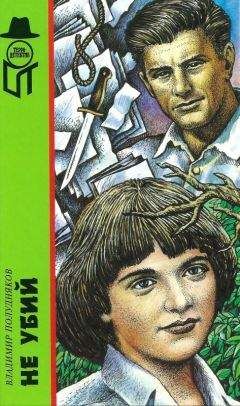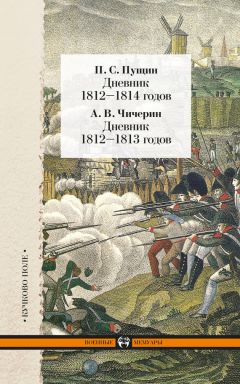— Так, так. А вы отбили ее у обоих; пришли, увидели и победили? Veni, vidi, vici?
— Нет, она по-прежнему еще любит своего Ханса.
— Черт побери! Так как же вы все-таки решаетесь жениться на ней?
— Я и не женюсь: женится Ханс. Мамонов кулаком по столу треснул и еще раз нечистого помянул.
— Так вы, сударь, что ж это, меня все время только морочили?
— Морочил, — говорю, — генерал, виноват! Но иначе вы меня и слушать бы не стали. А ваше сиятельство — человек благородный, душевный. Теперь, когда вы меня выслушали и знаете, в чем дело, вы примете угнетенных под свое покровительство и их осчастливите.
— То есть кого?
— Да Лотте и Ханса. Пастор уже позван в церковь, а сами же вы ведь предложили себя девушке в посаженые отцы. За кого бы она ни вышла — не все ли вам равно? Была бы лишь счастлива; а лучшего мужа, чем Ханс, ей не найти.
Глядит на меня генерал, да вдруг как разразится — не гневною уже бранью, а раскатистым смехом:
— Ха-ха-ха-ха! Вот уж разодолжили, можно сказать! Ну, что ж, коли все так, как вы говорите, то отчего бы ее и не осчастливить?
И, обернувшись к стоявшим у дверей казакам:
— Привести, — говорит, — сюда того молодчика. Привели Ханса. Локти у него назад скручены, вид злобный — затравленного зверя. От лютого казачьего генерала он чаял, конечно, и лютую расправу. Ан, заместо того сей дикарь говорит ему с преблагодушной улыбкой:
— Вот что, Ханс: хочешь жениться на хозяйской дочке?
Тот задорно в ответ:
— И не стыдно вам шутить над беззащитным?! Расстреляйте и — конец!
— И не думаю шутить: я послал уже хозяина за пастором.
— И за кистером тоже, — прибавил я от себя, — чтобы свечи в церкви зажег.
Смотрит Ханс на меня, смотрит на генерала, не знает: верить или не верить?
— Ну, что же, — говорит Мамонов. — Или ты не любишь Лотте? Не хочешь с нею вовсе венчаться?
— Да как же с хозяином?..
— Хозяин твой и пикнуть не посмеет. На глаза ему только пока не попадайся, а иди за нами тихомолком в церковь. Ну, что же, говори: хочешь ты, или нет?
— Как не хотеть!
— Ну, так ступай же, смой кровь с лица, да обрядись как следует. Невеста тоже сейчас готова.
Ушел Ханс, а тут и хозяин входит, впопыхах отдувается.
— Ну, что пастор? — спрашивает Мамонов.
— Кабы не ваши казаки, ни за что бы его не уломать! «Нельзя, — говорит, — без оглашения».
— А теперь он в церкви?
— В церкви, да и народ уже собирается: бабам нет ведь большего праздника, как этакая свадьба. А где же Лотте?
Пошел за дочкой, а дочка уж на пороге — бледная, трепетная, но нарядная и с миртовой веткой в волосах.
— Что, за ум взялась? — говорит отец. — А мирт откуда у тебя?
— Из сундука покойной матушки…
— Недаром она, значит, от собственной свадьбы своей припрятала. А вот и наши кольца венчальные: ими и повенчаетесь.
И вручает дочке одно кольцо, мне другое. Мамонов же, посаженый отец, помогает невесте в шубейку закутаться, под руку на улицу ее выводит и к церкви церемониально ведет; мы с родителем вслед шествуем, а за нами почетным конвоем ватага мамоновцев валит. Гогочут озорники, промеж себя шуточки глупые отпускают. Но оглянулся командир, цыкнул на них, примолкли.
Из деревенской церкви навстречу нам торжественные звуки органа доносятся. Входим, сквозь толпу деревенскую проталкиваемся. На алтаре восковые свечи горят, и пастор в своем пастырском облачении — черном таларе, с золотым распятием на груди, нас уже поджидает.
Но, не доходя до алтаря, посаженый отец с невестой останавливаются и назад оборачиваются. Я тоже на входную дверь озираюсь.
— Ну, что же, г-н барон? — удивляется родитель невесты. — Что там еще такое?
А из-за толпы в это время появляется Ханс. Умылся молодчик, как приказано, только красный шрам на лбу, расфрантился по-праздничному.
— Тебе-то что тут еще? — напускается на него хозяин. А посаженый с поклоном уступает уже свое
место Хансу; я передаю ему свое венчальное кольцо; и берет он за руку невесту, к алтарю ведет.
— Что это значит?.. — возмущается родитель. — Г-н генерал! Г-н барон!
Но генерал пистолет на него наводит:
— Мауль хальтен! Молчать! Затем обращается к пастору:
— Не угодно ли вам венчать молодых людей: они любят друг друга.
— Простите… — бормочет пастор. — Но отец невесты как будто не одобряет этого брака.
Мамонов приставляет пистолет к груди отца:
— Скажите г-ну пастору, что вы ничего не имеете против этого брака. Ну?
Толстяк дрожит, как осиновый лист, и, запинаясь, повторяет:
— Ничего не имею против…
— А ты, невеста, — говорит пастор, — согласна ли вступить в супружество с этим молодым человеком? Буде согласна, то отвечай: «Да».
Невеста тихо, но внятно отвечает:
— Да.
— И ты, жених, согласен вступить в супружество с этой девицей? Буде согласен, то отвечай: «Да».
Ответ жениха: «Да!» звучит так громко, что и в самом отдаленном углу церкви можно его расслышать.
Пастор предлагает обоим опуститься на колени и приступает к венчальному обряду.
В продолжение оного я оглядываюсь по сторонам. Храм старинный, со стрельчатыми окнами, иконами не украшенный, ибо таковых у лютеран ведь не полагается. Но на одной стене все-таки большая картина. Не та ли самая, про которую давеча рассказывал мне хозяин? От времени картина сильно почернела. Но, вглядевшись, я все же различил высокую гору с рыцарским замком на вершине и процессию, выходящую из ворот замка: вереницу женщин, несущих на плечах своих каждая по мужчине.
И мысль переносит меня опять назад за шесть веков к легендарному событию, совершившемуся здесь же в Вейнсберге…
Тем временем пастор обменял уже кольца на руках жениха и невесты и благословляет молодых. Обряд окончен. На хорах заиграл опять орган. Новобрачные рука об руку выходят из церкви. Родитель, волей-неволей, возвращается с ними тоже на свой постоялый двор.
— Ну, г-н хозяин, — говорит ему тут Мамонов, — что же вы за зятя спасибо мне не скажете? Ведь сами же хвалили его расторопность и честность? Он будет вам правой рукой. А вышла бы дочь ваша за другого, так вы остались бы здесь одни, как перст, изныли бы в одиночестве над своим денежным сундуком. Так ведь?
— Так-то так…
— Ну, так выпьемте же за здоровье молодых.
А те духом воспрянули, совсем окрылились: не спросясь уже старого главы дома, всякое угощение несут. Что есть в печи — все на стол мечи! А тем паче, что есть в погребе.
Роль председателя на свадебном пиру принял на себя уже Мамонов. Первый тост его, само собою, за государя императора, второй — за храброе российское воинство, а там уж — за новобрачных и за хозяина.
Тут встает с места и новобрачный, произносит не больно-то складную, но трогательную речь в честь своих двух благодетелей — генерала и «барона».
В людской же рядом, у мамоновцев, песни свадебные хором распеваются, и чем дальше, тем все громче. Новобрачный идет туда с полным стаканом и мы за ним посмотреть, что-то будет. А мамоновцы только его и ждали:
— Покачаем молодого, братцы?
— Покачаем!
И взлетает молодой на воздух, только пятки мелькают, да из стакана его брызги кругом разлетаются.
— А теперь молодую!
Но молодая визжит, за посаженого отца хоронится. Тот с усмешкой берет ее под свою защиту.
— Нет, ее-то оставьте уж в покое. Вот родителя ее — иное дело.
— Ну, хватай, ребята!
И родитель трижды совершает такой же воздушный полет.
— А теперь и самого генерала и г-на барона! — указывает на нас Ханс.
Расходившиеся мамоновцы точно так же и за нас с генералом принимаются.
Тут разгул пошел уже великий, поистине мамаевский…
Все это было вчера, а сегодня я проснулся на постели в верхнем жилье с отчаянною головною болью, и только когда окунул голову в таз с водой, мысли мои понемногу прояснились.
Мамоновцев, однако, с их командиром и след уже простыл. Мало того: одного из моих донцов, Плотникова, вдобавок с собой сманили. Другого, Маслова, я в конюшне нашел на соломе. Лежит и встать не может, только глухо стонет.
— Да что это, — говорю, — с тобой?
— Смерть моя, знать, пришла, ваше благородие!.. Отравился…
— Что за вздор! Чем ты мог здесь отравиться?
— Уксусом… Полный стакан хватил… Ой!
— Да с чего тебя вдруг угораздило?
— С похмелья… Зашел, вишь, с заднего крыльца на кухню, не найдется ли чем опохмелиться. А на окошке, как на грех, бутыль. Взял, на свет поглядел: ну, вино. Налил стакан, да от жажды духом как волью в себя… Что тут со мною сделалось!.. Молодая хозяйка (дай, Господи, ей доброе здоровье, а по смерти царство небесное!) и водой-то меня и молоком отпаивала…
— И все не легче?