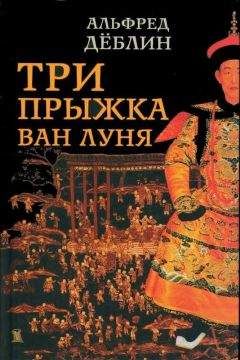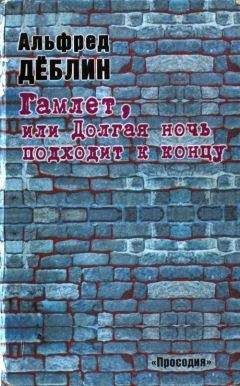В Бадалине Ма Ноу был только зачарованным наблюдателем того, что происходило с Ваном. Этого щуплого человечка переполняли чувства материнского страха за любимое чадо, благоговения, восхищения. Когда однажды утром Ван, вздохнув, отправился в свое одинокое странствие, Ма Ноу растерялся. Он сидел в голой комнате, заваленной всяким хламом, смотрел на распухшие костяшки своих пальцев, на будд, которых перетащил сюда с тележки, на маленькую, не больше локтя, тысячерукую Гуаньинь, стоявшую на подоконнике. Попрошайки, воры и убийцы сделались теперь его товарищами; а значит, ему предстоит бродяжничать, вечно бродяжничать. Может, хоть иногда будут попадаться виверры, похожие на ту толстую, старую, которая каждый вечер тыкалась мордочкой в его дверь и тихонько, по-воробьиному, верещала[109]; сейчас, наверное, она бегает по его брошенной хижине, обнюхивает углы — если, конечно, там не поселился какой-нибудь бездомный пройдоха и не спугнул бедное животное. Ворон-то полно повсюду, их он увидит — если не тех, прежних, так других. Но как его угораздило прибиться к этому сброду? Вана здесь больше нет. Он, Ма, хотел бродяжничать, ничему не противиться, истинно: не противиться. Однако слова эти не имеют смысла, если рядом нет Вана. Никчемным сотрясением воздуха казалось ему теперь Ваново наставление: «К чему бушевать и бороться, ежели судьба все равно идет своим путем? К чему все усилия, ежели судьба — счастьем ли, успехом, болезнью или пресыщением — всегда только удушает человека?» Удивительно слышать такое из уст бродяги!
Недоверчивый, погруженный в себя, двигался Ма в общей колонне. Весь день почти не разговаривал. Когда же, наконец, заснул, ему вспомнилась последняя ночь, и он страшно затосковал по глубокому, твердому голосу Вана. Сперва он сам толкал маленькую тележку с укутанными покрывалом буддами и сердито отклонял все предложения помощи. Но уже через пару ли, когда дорога пошла в гору его тонкие руки одеревенели и он вынужден был уступить дышло другим. Усталость только усиливала нетерпение и оно больно пощипывало нервы, будто то были струны миниатюрных цитр. Выбившись из сил, он опустился на круглый камень посреди дороги.
Движение колонны застопорилось. И очень скоро Ма Ноу, буравивший взглядом снег, осознал, что все остановились из-за него, вместе с ним. Он, обозлившись, хотел было вскочить, наброситься на того, кто взялся толкать тележку с буддами, но, обезоруженный устремленными на него серьезными взглядами, посмотрел вокруг. И быстро пробормотал: «Трогаемся!» Пристыжено поморщился. Смех да и только: эти олухи ждали его команды, эти прожженные бестии не хотели двигаться дальше, пока бывший монах не подаст им знак. Как хохотал бы сейчас настоятель с острова Путо! Его ученик, Ма Ноу, стал вожаком разбойничьей шайки, главарем бандитов!
Только теперь ему пришло в голову, что он, собственно, занял место Вана. Но он ведь к этому не стремился, он сам нуждался в Ване. В мгновение ока отчаянное «Я не хочу!», мучительное желание немедленно увидеть Вана, стиснуло его внутренности, комком застряло в горле, выдоило старческую слюну. В отчаянии схватился он руками за сердце. Он чувствовал себя безвозвратно погибшим. Голова пошла кругом, лицо запылало при одной мысли о том, что Ван в одночасье исчез и все сразу обессмыслилось: радостное признание его — Вана — превосходства над самим Ма, приход — вместе с ним — в захваченное селение, последующий исход оттуда нищенствующей братии. Все это продырявливает, опустошает грудь, острым колом вонзается в позвоночник.
Он занял место Вана: эта внезапная безумная мысль потрясла его.
Его затошнило, когда он подумал о невозможности продолжения прежней жизни. Ван ускользнул: что же теперь делать ему, Ма Ноу? Он так испугался, что готов был по-собачьи завыть.
Надо взять себя в руки, взять себя в руки! Где сейчас Ван Лунь? Бродяги и нищие о чем-то спорили. Он слышал обрывки священных доктрин — тех самых, которые постепенно высасывал из него Ван. Его простодушные попутчики еще не освободились от дурмана вчерашнего вечера и ночи. Он уныло наблюдал за ними; и вместе с тем пытался как-то справиться со своим состоянием, не поддаваться страху. Заставил себя: вспомнить тот блаженный час, когда он созерцал набрякшее снегом небо и впервые понял, что любит Вана. Он хотел пережить это еще раз, только это переживание могло его спасти. Он подошел поближе к бродягам; и опять с мучительной ясностью увидел себя — в роли подслушивающего, примазавшегося, примкнувшего. Как ему разыскать Вана? Они уверенно шагали вперед, вовсе не чувствовали себя покинутыми — сыном рыбака. Ма же бесстыдно замешался в их ряды. Он им льстил, он только притворялся таким же, как они, чтобы эти бродяги не заметили его ущербности. Но неожиданно для себя он задышал ровнее, каким-то образом их радостная уверенность залатала дыры в его душе. И он глубже натянул на уши черную шапку из кошачьего меха.
Тревожное ощущение, что люди, которыми он должен руководить, ближе к Вану, нежели он сам, не покидало его и в следующие две-три недели. Порой из него нельзя было вытянуть ни слова; или он стискивал зубы в бессильной злобе: ему казалось, будто его намеренно искушают. Попрекают тем, что он — такой, как есть. Но потом он опять принуждал себя успокоиться и с удивлением убеждался: что братья ничего плохого о нем не думают, что они ему полностью доверяют. Даже, как это ни смешно, относятся к нему с благоговейным почтением, мало чем отличающимся от того чувства, которое они испытывают по отношению к Вану. Он совестился отвечать на их вопросы. Но, хотя сам стыдился своей новой роли, они, очевидно, не видели ничего такого, что могло бы ему помешать ее исполнять; Ван Лунь не стоял между бродягами и им, Ма Hoy. Они сами — добровольно, настойчиво — предлагали ему себя в качестве объекта его власти. Он же воспринимал как грех каждое распоряжение, отданное этим людям, — как нечто оскорбительное по отношению к Вану. И, тем не менее, все это доставляло ему какое-то извращенное удовольствие.
Потом он привык. Каждодневные заботы притупили остроту ощущений. Вынужденный ежечасно высказывать свое мнение, принимать ответственные решения, он очень быстро оказался именно на такой дистанции от братьев, на какой они желали его видеть, — в положении признанного руководителя. Он действовал. Это требовало не только благочестивых раздумий. Ему приходилось сталкиваться и с сопротивлением. Он уже по горло насытился сомнениями, возвысился над ними. Прежняя жизнь у перевала Наньгу постепенно отступала во тьму. Новые неотложные задачи беспощадно перекраивали личность Ма Ноу.
Учение Вана излучало холод. Многие из тех. на кого оно в первую очередь воздействовало, со временем неизбежно должны были против него восстать. Например, неумехи, которые, разбойничая в горах Наньгу, отучились от всякого полезного дела, ибо в тех бедных краях даже сбором милостыни не могли обеспечить себе прокорм, а за попрошайничество подвергались арестам и побоям: они лишь с трудом и с большой неохотой возвращались к нормальной жизни, и их непросто было подвигнуть к общению с людьми. Их косые взгляды говорили о том, что они очень скоро опять примутся за разбой — единственную работу, в которой знают толк. Ма Ноу всерьез взялся за таких; ведь в планы Ван Луня наверняка не входило, чтобы его последователи бездельничали, сложив руки, или становились нравственно развращенными людьми. Другие тоже требовали тщательного присмотра: кто-то, скажем, радовался скитальческой жизни, утром, бодрый, куда-то уходил, вечером возвращался — оживленный, довольный, слишком уж довольный; потому что встретил в ближайшем местечке своего родича и, не думая об остальных братьях, втихую наслаждался его гостеприимством. Ответственность руководителя чудовищно возросла, когда приток новичков сильно увеличился и уже невозможно было понять: кто пришел последним, как его зовут, что у него за судьба, не взбушуется ли он против «трех драгоценных принципов» — бедности, целомудрия, недеяния, чего ждет для себя от союза «поистине слабых». В тот период в союз начали вступать беглые преступники — чтобы спрятаться от властей; и каждый раз приходилось решать: стоит ли по-братски принять какого-то конкретного человека, или нет, предоставить ли ему убежище, или выгнать. В одном случае ты рисковал навлечь на себя месть бандитов, в другом — пристальное внимание полиции и местных властей. Бывало, полиция без долгих разговоров хватала ни в чем не повинных мужчин и женщин, подозревая их в укрывательстве преступников.
«Кругблагочестивых», как называли себя «братья», неуклонно разрастался. И они самостоятельно пришли к своеобразной вере. Они полагали, что постепенно, путем «погружений», люди из замкнутого круга «поистине слабых» обретут ту заветную цель, которую они иногда называли Западным Раем на горе Куньлунь, иногда — царством пятого Майтрейи, а иногда — дарующим бессмертие эликсиром жизни.