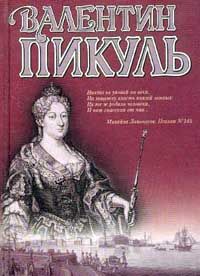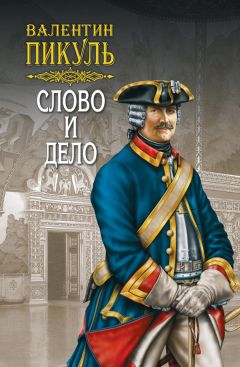Феофан (хитрый-хитрый) шевельнул смоляной бровью:
— До веселья далече, матушка. Как бы и сестрице твоей в долгах не сидеть! Дадут вам верховники тышшу на весь год. Вот и будете драчено яблочно на хлеб мазать и слезой закусывать…
Дикая герцогиня привыкла в Европе к муссам разным, теперь ее драчено яблочное уже не соблазняло, и тут она проговорилась:
— Писала я уже на Митаву, в известность Аннушку ставила.
— А ты еще пиши, — нашептывал Феофан. — Вгоняй в злость праведную сестрицу свою. Чтобы камень за пазухой она еще с Митавы сюда везла. Иначе пропадет великое дело Петрово, потопчут его затейщики верховные! Помни, матушка: покуда кондиции не разодраны — тебе тоже не станет житья: худо будет, бедно будет…
Довел Дикую герцогиню до белого каления и помчался обратно на Москву. Звенел в ушах Феофана ветер: «Дин-дон, дин-дон… царь Иван Василич! Монастыри да опричнина… плети да хоругви».
— А просвещенному деспотизму все равно быть! И перст Феофан поднял. Мчали кони — сытые кони, синодские.
Возки офицерские да сани мужицкие, сеном обложенные, застревали на выезде: далее солдаты никого не пропускали из Москвы.
Сумарокову ямщик попался толковый: как вожжи взял — так и трусить не стал. «Солдат омманем!» — посулил. До Черных Грязей ехали чуть не с песнями. На дорогах — ни души. Вот и рогатки уже показались. Солдаты валенками топают, рукавицами хлопают, кашу у костров лопают. Увидели возок с Сумароковым и закричали:
— Стой! Кто едет?
— Камер-юнкер принца Голштинского, — отвечал Сумароков.
— Какой? — спросил офицер от костра.
— Голштейн-Готторпский.
— Ты нам зубы не заговаривай. Лучше подорожную кажи!
— У меня только пас, — сознался Сумароков. — До именьишка добираюсь, — соврал он, боясь, как бы не стали молотить его.
— Нашел время по именьям разъезжать! Заворачивай оглобли!
Делать нечего: завернули обратно на Москву, обошли заставы окольно и ехали до станции Пешки; отсюда застав уже не было — езжай себе куда хочешь. Сумароков щедро отсыпал ямщику из кисета графского. Далее он нанимал «копеечных» (вольных) извозчиков, платил им хорошо — и кони летели.
Новгород уже наплывал гулом звонниц своих… Остановился Сумароков щец похлебать в придорожном трактире. Стряпуха как раз стол убирала. Объедки жирные были на столе, щедрые (она их себе в подол складывала).
— Кто проезжал-то до меня, бабушка? — спросил Сумароков.
— Господа каки-то, сынок… Сами важные, в шубах. А карета у них — больша-больша! С трубою, как изба. Дым-то так и прядает. Дров не жалеют. Платили знатно… Енералы! Им-то что?
Сумароков понял, что нагнал депутатов. Хорошо бы теперь их обогнать. Да чтобы с ними не встретиться. Ни-ни. А то ведь князь Михаила Голицын таков — чуть что не так, сразу за палку. И думал камер-юнкер голштинский об Аннушке Ягужинской: «Быть счастью моему с тобой или не быть… Где ты, Аннушка?»
За Новгородом ему повезло. Сумарокова нагнал знакомый поляк, курьер саксонского посла Лефорта — дружок по кружалам.
— Когда ты выехал из Москвы? — спросил он Петьку.
— Двадцатого, — отвечал Сумароков.
— А я на день раньше… Как же ты меня обогнал на клячах?
— Плохо, панич, — прилгал Сумароков. — Вишь, санки-то у меня каковы? Обстучали меня по дороге люди воровские. И пас сгинул!
— Помочь можно, — отвечал курьер. — У меня два паса с собой. Один канцлером Головкиным подписан — из коллегии. Вроде бы на купца рижского. А другой на меня — от посла Лефорта.
— Мне тебя послал сам бог! — обрадовался Сумароков…
С пасом на имя рижского купца он тронулся дальше, пересев на лошадь верхом…
Митава была недалеко, и с каждой верстой приближалась к нему любезная Аннушка Ягужинская… Так он и скакал — лесами.
* * *
Скакали, скакали — курьеры, курьеры. Везли они депеши от послов — королям, курфюрстам, герцогам… Пусть знают в Европе, что случилось в России: там покусились на самодержавие!
Саксонске польский резидент Лефорт депешировал:
«Новый образ правления, составляемый вельможами, дает повод к волнению в мелком дворянстве, среди которого слышны разговоры: „Ограничить деспотизм и самодержавие?.. Но кто же поручится нам, что со временем, вместо одного государя, не явится столько тиранов, сколько членов в совете Верховном?..“»
Французский посланник Маньян в эти дни сообщал королю:
«Испытав на опыте недавнее возвышение Долгоруких, русские опасаются могущества временщиков; вследствие этого хотят уничтожить самодержавие или же крайне ослабить его участием аристократии… Герцогине Курляндской они собираются дать только корону в пользование, вверив ей престол до той поры, пока они (вельможи) согласятся между собою насчет новой формы государственного правления».
Прусский посланник барон Мардефельд злобно пророчил:
«Все русские вообще желают свободы, но не могут согласиться между собою о мерах ее и качестве и до какой степени им следует ограничивать самодержавие… Императрица возвратит себе в короткое время полное самодержавие, ибо русская нация, хотя и много говорит о свободе, но свободы не знала, не знает и никогда не сумеет воспользоваться ею…»
Герцог де Лириа, посол Испании, спросил: «А кто это такая — Анна Иоанновна?» — после чего отписал в Мадрид следующее:
«Русская нация не могла лучше выбрать государыню. Курляндской герцогине 36 лет от роду, она очень величественной наружности, весьма любезна, отличается большим умом и поистине достойна русского трона…»
Врач и философ Кристодемус, доктор медицины и философии Падуанского университета, был начальником военных госпиталей в России; по происхождению — грек… Ныне он проживал в Риге, занимаясь науками, бесплатно лечил солдат и бедняков, собирал для коллекции монеты древнего мира. Двери дома своего Кристодемус всегда держал открытыми…
— Кто там стучит? Двери жилища философа не закрываются!
Вошел малый.
«Бычок славный; костюм — оранжевое с черным, цвета курляндской службы, а челюсть, челюсть… Бог ты мой, вот это кувалда!» — подумал Кристодемус, оглядывая гостя.
— Я камергер из Митавы… Бирен! Может, слышали обо мне?
— Нет, не слышал. А на что вы жалуетесь?
— Я здоров и ни на что не жалуюсь.
— Счастливчик, — вздохнул Кристодемус.
— Еще бы! Никто не спорит… Кстати, у меня скопилось уже немало старых медяков, но у вас, говорят, их больше?
— Показать?
— Нет, продать.
— Что для души — не продается. Один чекан Евкратида, царя Бактрии, мне обошелся в сорок ваших тощих кошельков.
— Надеюсь, — ответил Бирен, — вы не станете набивать цену?
— Вот там, в углу, — показал Кристодемус, — стоит моя палка, которую я беру с собой, чтобы отбиваться от голодных собак… Видите? Так возьмите ее в руки!
— Я взял, — ответил Бирен. — А дальше — что?
— Теперь этой палкой тресните себя по глупой башке…
— Весьма печально, — усмехнулся Бирен, — что вы не желаете услужить мне, камергеру Курляндской герцогини…
Так закончилось первое свидание ученого византийца с Биреном.
Впереди — еще два!
* * *
Густав Левенвольде скакал на Митаву. «Великий боже, — думал он, прыгая в седле, — кто мог предвидеть?» На мызе Корфов, возле ворот, качался тяжелый молоток. Левенвольде перехватил его, заухал в медный щит, висевший на столбе:
— Будите господина! Пусть скачет прямо к замку Вирцау…
Бирен безмятежно спал, когда в ухо ему крикнул Левенвольде:
— Вставай же, Эрнст, случилось чудо: наша герцогиня Анна избрана в императрицы всероссийские… Встань, твой час пробил!
Из-под длинной рубахи Бирена виднелись ноги в штопаных чулках.
— О, горе нам, горе… — с трудом опомнился камергер. — Кто же теперь защитит нас на Митаве? Бенигна, мы с тобой погибли…
За пологом алькова мелькнула горбатая тень Бенигны Бирен, вспыхнул огонек свечи возле распятья.
— Всевышний, — пылко шептала горбунья, — за что нам это наказанье? Не много ли ты даешь нам испытаний? Защити нас и отврати семейство Биренов от разлуки с герцогиней Анной… Сжалься!
Анна Иоанновна вышла из спальни (щеки в узорах от кружевных подушек). Зевала сочно, словно мужик, в большой мясистый кулак. Левенвольде громко стукнулся коленом в пол, протянул герцогине письмо от своего брата.
— Ваше величество! — оглушил он Анну. — Читайте… из Москвы!
— Эрнст, свечу сюда, — велела Анна, еще всего не осознав.
Письмо раскрылось в пальцах герцогини — с треском. Возле корявого лица плясало пламя. Зрачки Анны — прыг-прыг по строчкам, губы втянуты. Вдруг руки вскинула, забормотала по-русски: