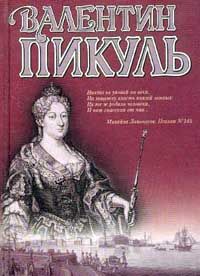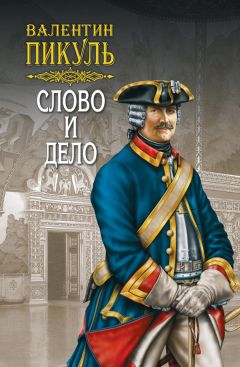— Вот оно… вот оно… подкатило! Сколько лет муку терпела. На восемь тышш жила, в нитку тянулась. И каждому угоди… А теперь-то — вот оно: Россия — моя, чай?
Затрясла письмом, заколыхалась грудями:
— Оценили вдовство мое… всенародно! Господи, — заревела Анна, — маменьки-то нет. Вот порадовалась бы, на меня глядючи. Густав! Эрнст! Бенигна! За любовь-то вашу… озолочу!
Рука Бирена опустилась, лизал ее коптящий язык огня. Желтый воск стекал на вытертые в танцах ковры. Бирен громко рыдал.
Левенвольде вздохнул — шумно, словно загнанная лошадь.
— Ваше величество, — произнес он, — возьмите себя в руки… Успокойте свое высокое достоинство и перечтите письмо заново: вы пропустили, в счастии своем, самое главное. Русские вашу власть ограничивают. Отныне ваш престол — не трон, а только место для удобного сидения…
Услышав это, Бирен снова поднял свечи к лицу Анны.
— Если так, — сказал обрадованно, — то не лучше ли остаться на Митаве? Здесь сидеть удобнее…
Анна Иоанновна вчиталась в письмо и сильно побледнела:
— Мне страшно стало, что здесь пишут… Эрнст! Русские хотят, чтоб ты остался на Митаве. И никого из близких мне с собой не брать… Но ты пойми: не стану ж я ради тебя престола русского лишаться…
Разбуженный шумом, тонко заплакал за стеною ребенок — ее сын, Карлуша Бирен, и этот плач напомнил каждому о многом…
— Все уладится, — сказал Левенвольде. — Важно сохранить тайну. Депутаты из Москвы не должны знать, что гонец немецкий опередил посланцев русских. От этого зависит многое!
Гулко захлопали двери замка Вирцау, Анна дунула на свечи:
— Кто там идет? Спрячемся… тихо!
— Какая тьма, — раздался чей-то сонный голос. — Не попал ли я к Вульзевулу в чистилище? Конечно, в преисподне дьявола удобнее творить выгодные дела, нежели в чистом раю при херувимах.
— Это безбожник Корф! — испугался Бирен. — Что ему надо?
Левенвольде нащупал в потемках руку Анны — влажную:
— Это я пригласил барона Корфа в Вирцау…
— Зачем ты это сделал, Густав? — прошипела Анна.
— Не обессудьте, ваше величество, но Корф… умен.
И никто лучше Корфа не сможет наладить отношения с Остерманом…
— Альбрехт, — позвала Анна Корфа, — я еду на Москву! Поздравь меня: я стала русской императрицей…
В темноте Корф споткнулся, упал, что-то загремело.
— Черт побери! Зажгите хоть одну свечу — я не вижу новое величество мира нашего…
Прямо из замка, не заезжая в Прекульн, барон Альбрехт Корф помчался на Москву, где его поджидал «умирающий» Остерман.
* * *
Рейнгольд Левенвольде писал на Митаву брату Густаву, что избрание Анны, как и смерть Петра, окружены пока непроницаемой тайной. И советовал: до времени с депутатами не спорить — подписать все, что дают, а здесь, на Москве (сообщал Рейнгольд), уже есть люди, которые приготовят Анне престол в том великолепии, которого она и достойна, как самодержица.
Оплывали бледные свечи — за окнами Вирцау светало. Нежданно явился Кейзерлинг, веселый и бодрый.
— Ну, — сказал, — от меня-то, надеюсь, вы не станете скрывать, что тут случилось?
Ему сообщили новость, и вот тут-то Кейзерлинг понял, что он был самым умным на Митаве: никогда с Биреном не ссорился, наоборот, даже помогал ему… И сейчас он сказал Бирену:
— Эрнст, не я ли подарил тебе на счастье орех-двойчатку, которую нашел осенью по дороге на Кальмцейге? А теперь я согласен на самое малое: дозволь мне быть твоим конюхом.
— Погоди, — хмурился Бирен. — Москва еще далеко, да меня русские варвары в Москву и не пускают…
Раздались звоны шпор и тяжелый шаг: то прибыл ландгофмейстер фон дер Ховен, и гроб господень отливал багрово на его плаще среди трех горностаев. Почетный рыцарь Курляндии преклонил свое надменное колено перед притихшей Анной Иоанновной.
— Мы счастливы, — сказал барон, — что великая и могущественная империя русских возлагает корону дома Романовых на вашу прекрасную голову! Прошу не забывать и тяжести короны дома Кетлеров — именно с нее и началось ваше чудесное величие…
Кейзерлинг подтолкнул Бирена в спину:
— Момент удобный… пользуйся, болван!
Бирен, крадучись, поймал фон дер Ховена в дверях замка:
— Может быть, в минуту, столь торжественную для Курляндии, вы соизволите причислить меня к благородному рыцарству?
В ответ ландгофмейстер захохотал:
— Рыцарство благородно, но… благороден ли ты? Раньше обычного проснулись в это утро фрейлины — защебетали. Тайны сохранить не удалось: еще и день не осветил Митавы, а сонные бюргеры, позевывая, уже сходились к ратуше:
— Слышали? Наша герцогиня стала уже императрицей…
Волновался фон Кишкель (старший) за своего сына — фон Кишкеля (младшего), выдвигал его впереди себя:
— Мой Ганс недаром восемь лет учился клеить конверты. России всегда нужны чиновники — образованные и честные!
— Фрау Мантейфель, а вашей дочери повезло: из фрейлин курляндских быть ей статс-дамой в России.
— Добрые митавцы, а каково теперь бродяге Бирену?
— О-о, вот уж выпало счастье…
Анна Иоанновна спешно перебирала свои сундуки, встряхивала гремящие роброны. Прикидывала на себя фижмы — какие бы попышнее? И выбрала такие, что в двери боком пролезала, иначе было никак не пройти — задевала за косяки. Навзрыд лаяли в замке собаки: просились на двор, но сегодня было не до них — лайте!
— Великое дело! — сказала Анна Иоанновна, зардевшись в гордости. — Теперь, что ни день, буженину с хреном есть буду. Зверинцы разные разведу. На богомолье схожу — святым угодникам поклониться. Милостыньку нищим подам. Баб разных приючу, чтобы они сказки мне про разбойников страшных сказывали…
Кейзерлинг заметил на столе белую костяную палочку камергера (Бирен забыл ее в суматохе). Взял он эту палочку и сказал:
— Какая прелесть! Эрнст, подари мне ее… на память.
— Бери, бери, — расщедрилась Анна Иоанновна. — Жалую тебя в свои камергеры… Чувствуй и верь: благосклонна я к друзьям!
В дверях неслышно появился фактор Лейба Либман; ростовщик оглядел толпу придворных герцогини и во всеуслышание объявил:
— Высокородные дворяне, вот повезло вам… правда? Вы едете на Москву, я слышал, а бедный Либман остается здесь. И все, что вы набрали в долг у меня, теперь… пропадет? Правда?
— О подлый фактор! — оскорбились рыцари. — За нами не пропадет… Дай только добраться до Москвы!
— Э-э-э, — засмеялся Либман, — так не годится. Уж лучше я поеду вместе с вами. И получу, что мне полагается с вас, из рук в руки — уже на Москве…
Из-за леса — от рубежей — примчались верховые, возвестив:
— Едут… московиты едут!
Курляндцы перестарались. Василий Лукич вошел в тронную и сразу понял: здесь кто-то уже был… предупредили! Вдоль стен охорашивались фрейлины. В затылок Бирену, по немецкому ранжиру, равнялись камер-юнкеры. А сама Анна Иоанновна — в лучшем, что было, — стояла под балдахином, и в прическе герцогини жиденько посверкивали нищенские бриллиантики короны Кетлеров.
Лукич через плечо шепнул Голицыну и Леонтьеву:
— Кто-то был… до нас. Уже приготовились!
И упал на колени перед престолом курляндским. Перед ним высилась баба — ея величество. «Прилягу… ей-ей, прилягу!»
* * *
Паж Брискорн продел меж пальцев собачьи поводки, и визжащая от нетерпения свора легавых сильными рывками потащила его в сад.
— Эй, мальчик! — вдруг окликнули Брискорна по-немецки.
Возле ограды Вирцау стоял человек в русском тулупчике, из-под меха бараньего торчал ворот мундира. Измученная лошадь склонила на плечо ему голову, висла с удил белая кислая пена.
— Ты, мальчик, служишь при здешней герцогине?
— Да, сударь… А что вам нужно?
— Я имею важное письмо до твоей герцогини. А коли гости к ней из Москвы прибыли, так ты не возвещай обо мне громко. Шепни обо мне герцогине на ухо… Я человек секретный!
Мальчик очень любил секреты и скоро вернулся, перехватил из рук Сумарокова (это был он) поводья.
— Я передал о вас. Коня я спрячу. Пойдемте, сударь… Сумароков протиснулся в двери. Ступени вели куда-то вниз. Коридоры, витые лестницы. И очутился в погребе, под землей.
— Здесь и ведено ждать, — сообщил Брискорн. Паж оставил ему свечу. Сумароков томился долго: казалось, вот сейчас войдет сюда Анна Иоанновна и улыбнется ласково… Но перед ним уже стоял изящный господин в шелку и бархатах. Нос с горбинкой, а губы незнакомца приятные и глаза светятся.
— Я камергер герцогини… Иоганн Эрнст Бирен, и поручение имею вас выслушать и в точности донести до госпожи своей.
— Того исполнить не могу, — ответил Сумароков. — Дело, с коим я прибыл, весьма важное, только самой государыне могу сказать о нем. А вас, сударь, как слышано, до русских дел пускать не ведено… Неужто Анна Иоанновна не знает об этом?