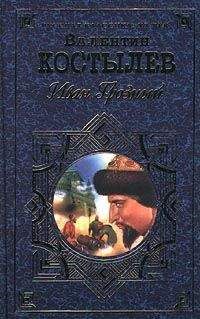А кто дал совет бракосочетаться с Анастасией Романовной? Как сейчас, видит Иван Васильевич свое венчание здесь же, в этом храме. Он помнит цветы, которыми боярыни убрали большую палату во дворце. Анастасия выглядела девочкой; она сидела, стыдливо потупив глаза, и на губах у нее была совсем детская улыбка... Митрополит, глядя на нее, говорил тихим, ласковым голосом: «Муж должен любить свою жену, а жена должна слушаться своего мужа, ибо как крест – глава церкви, так царь – глава царице и прочим всем».
«Анастасия! Разве я не любил тебя? Анастасия! Сколько радостных дней было в те поры! Как часто святой отец благословлял твою доброту и ум! Где же лучше-то царь найдет советчицу? Теперь Макарий там же, где и ты!»
«Анастасия!.. Макарий!.. Молитесь... Молитесь перед престолом Всевышнего обо мне, несчастном!»
Слезы? Иноки стараются не видеть лица государя.
Со всею глубиною скорби властелина, теряющего преданного ему друга и соратника, Иван Васильевич чувствует эту незаполнимую, неутешную утрату, как будто вместе с Макарием умерла часть его самого, откололся громадный кусок его духовной силы... Страшно чувствовать, будто ты стал меньше, слабее, и это в то время, когда вражеские силы растут, объединяются, наползают со всех сторон... Церковь осиротела. Но еще сильнее осиротел государь. Церковь не всегда склонна поддерживать царя, нередко она стоит в стороне – в своей духовной отрешенности, в своей молитвенной замкнутости, – и что будет после Макария, кто заменит его? Не явится ли эта смерть источником еще горшей судьбы государства?..
Иноки видят, как царь наклоняется над гробом и целует в лоб покойного митрополита... Царь шепчет что-то. Что? Расслышать невозможно, – кажется, клятву.
X
– Эх-ма, жизнь ты наша!
Андрей, появившийся в горнице Охимы, с сердцем бросил свой малахай в угол.
Истинно, не так живи, как хочется, а как Бог укажет. То ли дело с тобою бы, в твоей избе, пожить в мирном доме. Э-эх, Охимушка! Будто вчерась только я увидел, какая ты красавица, какая зорюшка алая на ланитах твоих!..
Охима, в крепком объятии Андрея, заглядывала со счастливой улыбкой ему в лицо: давно уж так горячо, так любовно не ласкал он ее. Но чуяло сердце, что неспроста это!
Утомившись ласкою, исчерпав все нежные слова, какие у него были, Андрей сел на скамью и разгладил на прямой пробор волосы.
– В Нарву, видать, придется ехать. К морю!
– В Нарву? – озадаченно переспросила Охима. – Пошло?
– Нарва ныне стала в почете. Едут туда и едут, и розмыслы, и корабленники, и воеводы, и попы, и дьяки, и стрельцы. Господи, все туда едут!.. Государь батюшка Западного моря добивается навечно.
– Ах, Андрюша! Грешно будто бы царя осуждать, да невмоготу уж мне стало. Пошто нам-то море? Мало ли крови пролито из-за него!
– Лебедка, лебедушка моя, серебряно перо! В моей ли то воле?
– Не хочу я, штоб ты покинул меня!..
– Да и я не хочу, сказал уж!
– Ну и оставайся! Чего ж ты?
– Тогда мне голову срубят... У нас недолго. Того ли ты добиваешься? Чудно!
– А мы убежим, давай... убежим!
– Куды?
– Куды бояре бегут... В Литву!
Андрей вскочил, испуганно зажал ей рот.
– Уймись! Дура! Ой, глупая! Ишь, чего сморозила! – взглянул он с опаской в оконце. – Ноне везде послухи... Везде тайно кроются уши государевы... Тараканы – и те прислушиваются, гляди, усами шевелят. Сказала тоже... Смешная! Да разве мы бояре?!
Охима оттолкнула Андрея, обиженно:
– Пускай уж лучше голову мне отсекут, коли так!
Андрей укоризненно посмотрел на нее.
– Баба ты, баба! Подумала бы лучше: чего ради мы воевали, ради чего кровушки реки пролили? Неужто для того, штоб все снова отдать немцам?! Подумай! Легко ли мне-то с тобой разлучаться? Глупая! А все же...
Охима заплакала.
Андрей молчал, не зная, что сказать в утешенье.
Так прошло несколько минут.
Вдруг раздался стук в дверь. Андрей насторожился. Отворил.
Печатник Иван Федоров.
Охима быстро поднялась. Оба, Андрей и она, низко, в пояс, поклонились ему.
Помолившись на икону, Иван Федоров сказал:
– Мир беседе вашей, добрые люди! Садитесь, покалякаем.
Андрей и Охима дождались, когда он сел на скамью под образа, сели и сами, почтительно потупив глаза.
– На дворе мокро... Будто и не зима... Теплый туман... Знать, к урожаю. Знать, Господь Бог сжалился над нашей грешной землей. Все в его святой воле.
И, обратившись к Андрею, спросил:
– Ну, как, пушкарь, дела?.. Слыхал я: суматошно там у вас... в слободе?
Андрей тихо ответил:
– Государь батюшка Иван Васильевич изволил побывать на Пушечном. Новые ковали мы пушки, легкие, малые. Тайное дело. Работаем!.. С ног сбиваемся! Беда!
Иван Федоров одобрительно покачал головой, слушая пушкаря, затем, понизив голос, тихо спросил:
– Слышал я, будто боярина Самойлова государь изгнал с Пушечного... Так ли?
Андрей, опасливо озираясь по сторонам, прошептал:
– Разгневался государь на него, а за што – не ведаем... Много уж у нас сгинуло людей. Не первый он.
Иван Федоров задумался.
– М-да, трудненько государю батюшке!.. Не чаял он, что так-то обернется. Да к тому же и батюшку митрополита схоронили. Не набивался смиренный первосвятитель в советники к царю, а человеком был нужным и ему и всем нам... Враги Печатного двора ликуют, и Бог весть, что будет дальше! Поджигателей на днях Григорий Грязной похватал в пустыре... Будто сжечь нас задумали... Скрыли мы то от государя, и без того ему тяготы немало... Будущее темными тучами окутано... Волнами бедствий захлестывает... Что станет – Бог ведает!
Иван Федоров с волнением в голосе рассказал о том, как он удостоился в прошлую субботу бить челом государю. Доложил ему о том, что близится к концу печатание долгожданных «Деяний и посланий апостолов».
Иван Васильевич благодарил его, Ивана Федорова.
– «Благое то, угодное Богу дело, – сказал он, – ибо доставит оно христианам, в замену бездельных, неверных и богохульных писаний, исправную печатную книгу. В ней мы дадим народу единый закон Божий и единую службу церковную... Пускай ополчатся строптивые грамотеи, корысть кои имели от списывания книг, пускай с ними заодно суеверы, изумленные новиною, пускай!... Сумею я управиться и с ними, как с Божьей помощью, управляюсь с изменниками...»
Повторив слова царя, Иван Федоров задумчиво произнес:
– Но едва ли удастся батюшке государю защитить нас, печатников! У него и без того дела много, а враги наши не спят. Не будем же мы ходить и жаловаться всяк раз его царской милости. Он высоко – мы низко. А злоехидные гады ползают на низах. Они там властвуют. В иных делах гады сильнее царей. Мне страшно, чада мои! Боюсь, не сдобровать мне и помощнику моему Петру Тимофеевичу Мстиславцу. Съедят нас!
Андрей хорошо понимал Ивана Федорова. Ему, как отмеченному царской милостью пушкарю, нередко приходилось испытывать то же самое. Зависть и недоброжелательство преследовали его на каждом шагу. Не выделяйся!
Иван Федоров поднялся, степенно помолился на икону, поклонился сначала Андрею, затем Охиме. Они ответили ему тем же.
После его ухода Андрей обнял Охиму и крепко-крепко ее поцеловал. Она была такая нежная, ласковая, теплая, что трудно было удержаться от новых, еще более страстных ласк. Ее черные, бедовые глаза, с капризными слезинками на бахроме ресниц, ее сильные и вместе с тем подвижные плечи, высокая грудь, все, все так хорошо знакомое, дававшее столько уюта и счастья, – все это заставило Андрея забыть и Пушечный двор, и царя, и Нарву...
– Милая!.. – шептал, задыхаясь от волнения, Андрей. – Не надо думать!.. Я с тобой! Глупая! Твой, твой я!.. Слышу!.. Сердечко дрожит! Полно! Не горюй! Убаюкай меня!.. Забудем все на свете.
Охима все забыла!
Андрею слышен ее несвязный шепот: «Солнце крадет росу, как твоя улыбка сушит мои слезы!» Девушка чувствует любовь Андрея. Он ей принадлежит. Бесстыдница! Ой, какие слова она шепчет ему в ухо! Да, она не отпустит его и тогда, когда в ее горницу через оконце проникнут бледные полосы, предвестницы рассвета... Никто и не должен слышать тех слов! Пускай будет вечная ночь! Никого и ничего ей не надо!
Угловая дворцовая башня.
Горница в ней; кирпичные стены сплошь обиты кизилбашскими коврами. За маленьким круглым столом – Григорий Лукьяныч Малюта Скуратов. Вокруг башни пустынно, внизу переходы, охраняемые стрельцами, и нежилые покои – пыточное место по крамольным делам.
Лицо Малюты веселое. В слюдяную глазницу виден большой желтый круг солнца, затуманенного предвесенней сыростью. Вчера таяло – сегодня с утра подморозило. Февраль, видимо, не будет таким лютым, каким был декабрь.
Григорий Лукьяныч помолился на икону, раскрыл свиток, врученный ему накануне царем.
Просматривая его, с усмешкой покачал головою.
– Они же! – проговорил он. – Вздыхальщики.
Писано самим царем со слов одному государю известного человека. Уже пять лет, – по словам царя, – как он завербован лично самим Иваном Васильевичем в соглядатаи.