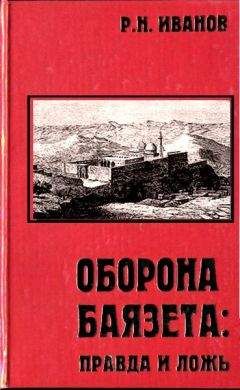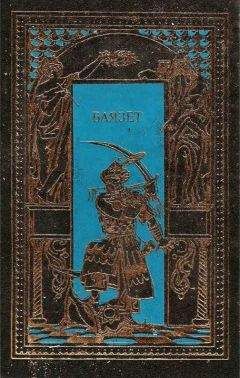И велел остальным писцам:
— Спишите это. Чтобы было таких писем много. И вечером снесите их все сюда. И писать разборчиво, ясно, без кудрей! Возьмите у него и ступайте списывать. А ты останься.
Трое поднялись, сгибаясь в поклонах, и вышли, не разгибаясь, Саид Ахмад Бахши остался на своем месте.
Словно забыв о письме, Тимур велел слуге звать тысячника.
Когда тот, еще с порога валясь на колени, явился, Тимур приказал:
— К вечеру отбери гонцов. Двадцать ли, тридцать ли. Знающих здешние места. Таких неприметных, чтоб, минуя османов, добрались до туркменских становий. До племени Черных баранов и до прочих всех племен, что до нас тут жили. Отбери надежных. Может, из караванщиков, что здесь хаживали… Иди.
Тысячник, пятясь, вывалился из юрты и ринулся по крутой тропе в глубь оврага.
Тогда Тимур, как бы только что вспомнив о бухарце, спросил:
— Что ж не пишешь?
— А кому, о Повелитель!
— То письмо начал без спроса, а теперь ждешь?
Саид Ахмад Бахши снова склонился над чистым листком. Тимур присмотрелся.
— Бумага хороша ли?
— Китайская, а лощенье наше, бухарское. Лучше не бывает.
— Ферганская небось лучше?
— Наши мастера тамошним не уступают.
— Тогда пиши, как начал. Обращаемся мы к султану Баязету. Пиши миролюбиво, почтительно: да хранит, мол, его милостивый, милосердный!.. Он природный султан! Красиво пиши, достойно. Понял? Начинай. А дальше так…
Но в это время за юртой сверкнула бабочка. Та ли, другая ли… И вдруг Тимуру вспомнилось, как давно когда-то он осмеял внука, маленького Улугбека, любившего гоняться за бабочками. Внука осмеял, а сам нынче!..
Он закрыл глаза, чтоб яснее вспомнить и понять. Спохватившись, не заметил ли его раздумий писец, нахмурился. Но понемногу успокоился, глянув, как, ничего не видя вокруг, бухарец, прикусив губу, искусно писал. Хотя по неграмотности Тимур не мог прочитать, складно ли пишется, но был доволен: слова не сплетались в хитроумные завитки, а ложились строго и ровно.
Тимур отодвинулся в глубь юрты: снаружи затолклись струи дождя, приминая седину прошлогодней травы и умывая свежую. Прислушался, как застучали они по юрте, будто пальцы по тугой дойре.
Посвежело. Острее запахло всем, что было вокруг. Для Тимура были равны все запахи, смрад ли то, благоухание ли, пахло ли промокшей землей или проволгшим седлом.
Сидя на поджатой ноге, он вдруг поднял плечи, напрягся, словно не на кошме сидел, а смотрел с высокого седла в ту даль, что еще заслонена весенними ливнями и облаками, но полна сокровищами городов и людскими скопищами народов.
Он сидел один, разослав военачальников и слуг исполнять то или другое. За отворотом юрты ничего не виднелось, кроме дождя и белого, как вата, неба. Но ему и надо было, чтоб никто не мешал сквозь всю эту мглу пробиваться теперь своей мечтой к цели.
Он представил себе, как, сделав лишь шаг вперед, примет встречные удары. Они неминуемы, как встречный ветер, когда выходишь на степную дорогу. Здесь, рядом, не степь, здесь горы. Но и с горных круч порой такой ветер дует, что сбивает с седла. Когда ветер бьет навстречу, крепче шаг идущего вперед. А предстоящий путь надлежало пройти крепким шагом: впереди простирались земли и страны, какие султан Баязет считал своими или намеревался взять себе, хотя известно, что земля принадлежит аллаху, а кому ее он, милостивый, пожелает дать, о том легче судить Тимуру, ибо он Меч Аллаха.
2
Трое путников вошли в котловину, где стоял стан Тимура.
Над двоими высились островерхие войлочные колпаки дервишей. Их рубчатые халаты развевались при быстрой ходьбе. Холщовые штаны прижимались к тонким ногам. У одного на животе билась свисавшая с шеи на длинном ремешке скорлупа кокосового ореха, у другого эта чаша для подаяний была медной и держалась на веревке, привязанной к поясу. Но подаяний в их чашах не было.
Двое шли по дороге, постукивая обтертыми посохами, а третий ничем не был на них похож: и бороды не носил, а только усы, и круглоголов, когда те длиннолицы, и походка была приплясывающей, а не степенной, монашеской. На нем зеленела короткая куртка, а штаны он надел красные, узкие, и не колпак, а плоская шапочка покрывала голову щуплого человека. Он вел с собой рядом, а то и поднимал на руки серую обезьянку, и, оказываясь у него на руках, она, будто благословляя, клала ему на голову лиловые морщинистые ладони. Это шел базарный затейник, пристав к столь чуждым ему людям, как часто бывало в те времена, когда одинокому путнику опасно идти от селенья к селенью по безлюдной дороге.
Так они шли, и обезьянка то волочилась, натягивая цепочку, вслед за ними, что-то выискивая на дороге, то, поймав руку хозяина, мгновенно взбиралась по руке ему на плечо и с той высоты взирала на всю ложбину.
А ложбина впереди темнела от множества людей, от шатров и юрт стана, от всадников, скачущих из конца в конец того многолюдья.
Здесь, задолго до стана, путников остановил караул.
Караул заспорил с путниками, повторяя:
— К стану никому нет пути.
Базарный чудодей смеялся:
— Я шел потешить воинов, завоевателей вселенной.
— Нам тут и без тебя весело.
— Однако ж… Обезьяны-то у вас нет.
Воин прикрикнул:
— Что нам надо, у нас все есть.
Подъехал сотник. Вглядчиво присмотревшись к каждому из троих, спросил дервишей:
— А вы?
— Бога славим.
У Тимура среди дервишей много ходило своих людей по всем мусульманским краям. Не велено было отгонять дервишей, идущих в стан.
— У нас тут ханаки нет. Зачем вам сюда?
— К самому Повелителю. Дело есть.
Сотник приметил, что в дервишеских чашах не было следов подаяний. Чаши изнутри даже запылились оттого, что давно ничего там не бывало.
Сотник приказал дервишей под стражей пропустить в стан, но без чародея.
Дервиши заступились:
— Пусти и его. Он с нами. Мы его давно знаем. Наш человек.
Сотник, похлопывая плеткой по голенищу, еще раз молча оглядел чародея. Смилостивился:
— Ладно. Ступайте все втроем.
И отъехал, будто занятый более нужными делами.
Их провели в стан, но не допустили до белой палатки Повелителя, не раз расспрашивали — то один военачальник, то другой — и наконец довели до бека проведчиков.
Бек проведчиков не признал среди них ни одного, кого он под одеждой дервишей засылал в чужие места.
Тогда они ему открылись, что-то шепча на ухо, и, разрывая одежду, доставали оттуда какие-то доказательства прошептанных слов.
Все это делалось тихо, еле слышно, но опытный бек поверил им.
Несколько барласов плотно окружили их и отвели в баню, где, пока они мылись, быстрые руки умело обшарили всю одежду прибывших.
Одевшись, они прошли мимо белой палатки Повелителя. Гости забеспокоились: почему же мимо? Еще больше забеспокоились, когда, предводимые самим беком и сопровождаемые теми же отмалчивающимися барласами, пошли в сторону от лагеря в пустынное, вечереющее, безлюдное предгорье. Когда ввели их в глубокий овраг, не смогши преодолеть беспокойства, один из дервишей испуганно воскликнул:
— О бек!
Бек обернулся без любезной улыбки и как-то торжественно, степенно кивнул:
— Тут рядом.
Это не утешило недобрых предчувствий, но путники примолкли, и только обезьянка вертелась и кривлялась на хозяйском плече.
Они успокоились, лишь заметив в овраге очаги под котлами, поваров и прочих людей, сидевших от котлов неподалеку и мирно разговаривавших.
Здесь пришельцы подождали, пока бек ходил из оврага наверх по каменистой тропинке.
Пока ждали, повара угостили их. Поели впервые за весь день. Приободрились: задумав убить, не кормили бы, такого обычая у Тимура не было, хотя они и не знали обычаев Тимура. Но, насытившись, и умирать легче.
Повара подошли к обезьянке, спросили у хозяина, чем ее покормить. Покормили. Она, по привычке, за подачку показала им свое уменье. Чародей велел ей:
— А ну, покажи, как султан Баязет в баню ходит!
И она показала. Очень похоже, как, гордо запрокинув одноглазую голову и небрежно поволакивая левую ногу, почесываясь, идет султан Баязет.
Кроме прибывших, здесь не было никого, кто видел бы самого Баязета, но все ясно представили его теперь.
Повара смеялись, удивлялись уму обезьянки. Сам чародей не выступал.
— После вашего угощенья поясница не гнется.
Вдруг сверху их позвал бек.
Они взошли по крутой тропинке.
Пошли вслед за беком снова в степь к неприглядной одинокой юрте.
Прежде чем они вошли, их встретил молодой человек с веселыми, незлыми глазами.
Он был одет не по-воински — в широком белом белье под распахнутым дорогим халатом.
Неподалеку от юрты он снова расспросил их, и они снова открыли ему свои имена.