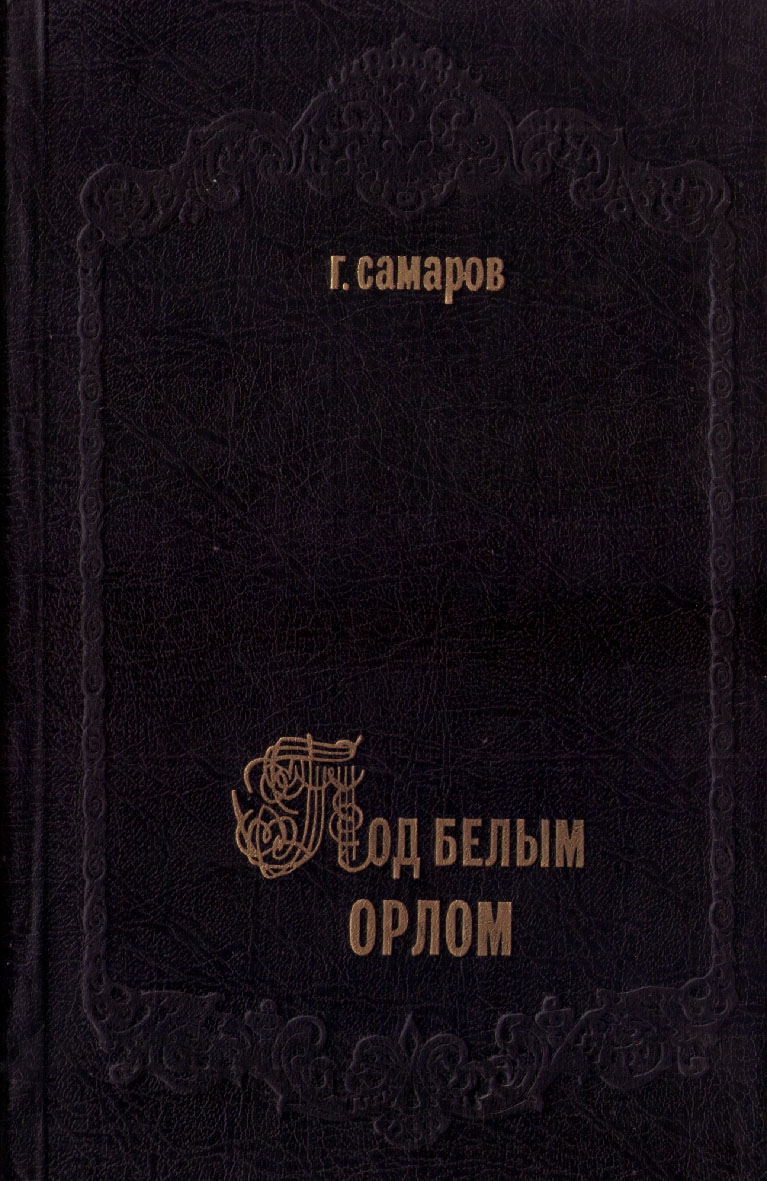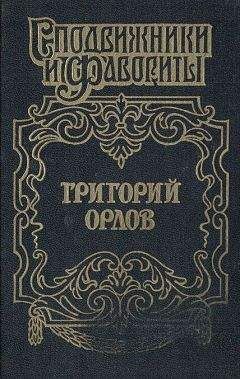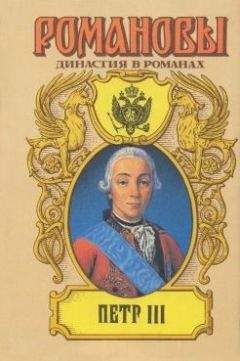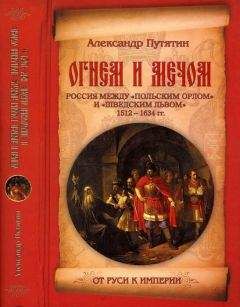женщина, снова задёрнув за собою портьеру.
То было живое воплощение дивной красоты и грации, в котором величавость Юноны сочеталась с соблазнительной прелестью богини любви, смотревшей с потолка. На ней был костюм гречанок: широкие пурпуровые шаровары, ниспадавшие до изящных жёлтых туфелек, белый, шитый серебром бешмет с красным поясом, полуоткрывавший грудь, а на нём пурпурное верхнее одеяние с широкими разрезными рукавами, предоставлявшими полную свободу движений стройной руке восхитительной формы.
Лицо этой женщины, так таинственно вошедшей в покои графа, соединяло в себе благородство классической антики с чувственным пылом женщины Востока; её глаза, вспыхивавшие фосфорическим блеском, могли так же надменно смотреть с гордой высоты, как и обольстительно возбуждать необузданную страсть. Густые, тёмные волосы ниспадали толстыми косами на белоснежную шейку; маленькая красная шапочка прикрывала темя этой странной женщины, которую можно было представить себе королевой и баядеркой, Клеопатрой и Аспазией, причём она оставалась соблазнительной и прелестной, какой бы облик ни придавало ей человеческое воображение.
Красавица дошла до средины комнаты и, выглянув в сад, увидала графа. Затем тихо и неслышно, точно несясь по воздуху, она двинулась к нему, опустила за его спиной свои розовые пальчики в мраморный бассейн фонтана и опрыскала его кристальной водой.
Граф вздрогнул, обернулся, и его взоры восторженно вспыхнули при виде прекрасной гречанки.
Действительно, её образ был достоин восхищения, потому что в данную минуту это чудное лицо сияло сладостно-влекущими взорами и прелестной улыбкой богини любви.
Граф поспешил ей навстречу и пылко заключил её в объятия.
— Благодарю тебя, моя София, благодарю, — воскликнул он, — что ты пришла ещё раз, чтобы я мог освежиться твоим милым видом для тягостной дневной борьбы, в которой я должен напрягать всю силу воли, всю остроту мышления, всю хитрость притворства; мне необходимо незаметно для людей преодолеть их враждебные козни и стремиться к поставленным себе целям, скрывая эти цели от них, чтобы господствовать над их послушным орудием, пока наконец после этой дневной тяготы наступит желанная, милая ночь, приносящая мне моё счастье. О, — продолжал он, нежно целуя глаза красавицы, — часто уже случалось мне в горькой досаде на все мучения и разочарования света, дневная борьба которого окружает меня, задавать себе вопрос, почему я не удерживаю за собою счастья, которое приносит мне теперь только молчаливая ночь в тёмной безвестности, почему я не сбрасываю с себя мучений и разочарований света и не создаю себе с тобою, моя возлюбленная, земного рая в уединении одного из моих отдалённых поместий в лесах Подолии!..
Прекрасная София вырвалась из его объятий; её глаза вспыхнули, губы дрогнули почти с насмешливым презрением; Аспазия внезапно превратилась в Клеопатру.
— Какая мысль! — воскликнула она дивным голосом, обладавшим всею металлической звучностью колокола, который то дрожит тихими нотами, то разливается могучими звуковыми волнами, — что за мысль, мой Феликс! Разве возможно счастье в уединении, где нет борьбы за победу и господство, которая одна способна придать прелесть и цену этому земному существованию?
— А любовь, моя София? — спросил Потоцкий, почти обиженный её резким возражением, но опять-таки восхищенный новой красотою, оживившей её обыкновенно спокойные черты. — Разве ты не ставишь ни во что нашей любви?
— Любовь, мой друг, — серьёзно ответила она, покачивая головой, — это сладостное украшение жизни, но не её цель; она не может найти в самой себе пищу и была бы обречена скоро умереть в уединении.
— Значит, ты разлюбила бы меня? — спросил граф, в испуге схватывая её за руку и боязливо пытаясь прочесть ответ в глазах молодой женщины.
— Да, — подтвердила София, не задумавшись, — да, мой друг, я разлюбила бы тебя в пустынном уединении, обрекающем нас на одиночество! Если уж наши прародители, — сказала она с восхитительной насмешливой улыбкой, — не могли выдержать уединение рая, то насколько менее пришлась бы нам по вкусу подобная жизнь — нам, в чьих жилах в продолжение стольких тясячелетий бродит сок яблока с древа познания! Почему полюбила я тебя, когда ты посетил нас в Петербурге? — спросила чародейка, нежно прижимаясь к графу, когда он печально и с упрёком посмотрел ей в глаза. — Потому, что в тебе я признала мужчину, созданного господствовать над другими! Я думала, что люблю Потёмкина, ты знаешь это; ведь моя жизнь открыта пред светом; но Потёмкин, который так могуществен и воображает себя ещё могущественнее, чем он есть на самом деле, должен склоняться во прах пред той Екатериной, которую можно назвать единственным мужчиной в целой России и которую я ненавижу за это! Прихоть этой женщины может одним мановением её руки низвергнуть его с теперешней высоты в ничтожество. Могу ли я любить мужчину, который трепещет пред другой женщиной? Кто хочет быть моим господином, тог не должен быть рабом иной. Тебя, мой Феликс, я видела при петербургском дворе стоящим гордо и прямо среди трусливых рабов этой «Северной Семирамиды», как прозвали её льстецы, между которыми Потёмкин занимает первое место, хотя и размахивает бичом над головами остальных. С того мгновения моё сердце стало принадлежать тебе. Хотя ты не был господином над другими, но ты оставался свободным и только свободный мужчина — господин самого себя и женщины, которая его любит. Но ты должен сделаться также господином над другими, и Сам Бог осыпал тебя для этого своими дарами; но ты должен быть господином не над петербургскими рабами, а над гордыми и храбрыми мужчинами в Польше, которые неукротимы и упрямы, как благородный конь, но зато охотно и с радостью будут повиноваться мудрому и смелому хозяину. Ты — мой возлюбленный, потому что ты остался свободным; сделайся тем, на что ты был создан — царственным повелителем над другими, и ты будешь моим богом! Если же тебе вздумается прекратить борьбу за высочайшую и великолепнейшую цель на земле, если ты вздумаешь удалиться в уединение, чтобы подобно воркующему пастушку тешиться шутливой любовной игрою, тогда, мой друг, ищи себе другую женщину, тогда я разлюблю тебя, потому что тогда ты перестанешь быть господином самого себя, а вскоре спустишься и до положения раба других.
София взглянула на графа влажноблестевшими глазами снизу вверх; Потоцкий горячо поцеловал её пухлые губы и воскликнул:
— Да, ты права, София! ты права, если отдаёшь свою любовь за высочайшую награду; правда, скоро блекнущий цветок срывают на краю дороги, но драгоценный камень нужно добывать в недрах скал, а жемчужину — из глубин моря. Да, я стану бороться ради высшей