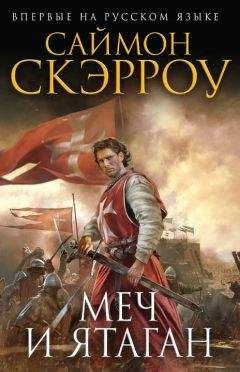Уроки манер проводились на канцелярской конюшне в Мошковом переулке, а сливаться с народом учили в заброшенном Аничковом дворце у Французского театра. Студенты должны были в любой обстановке чувствовать себя как рыба в воде.
Шешковский же завел и обучение приемам рукопашного боя. Тут он себе доверял не очень. Однажды, наутро после собственных именин, глядя немного вбок, представил студентам преподавателя, сильно смахивавшего на полового из екатерингофского трактира.
– Этот спуску не даст, – глухо сказал он и немедленно вышел.
Молодцы выскакивали у Шешковского на все руки и прямиком поступали под крышу Канцелярии иностранных дел.
Военный министр граф Яков Александрович Брюс брюзжал от зависти в соответствии с фамилией. Питомцы его собственной – военной – разведшколы по выпуске в большую жизнь все сбивались на строевой шаг и до самой пенсии быстрее всего отзывались на команду "Смирно!".
Излишне говорить, что, встречаясь на европейских просторах, птенцы Шешковского терпеть не могли Брюсовых фельдфебелей. Брюсовы платили тем же, отчего безопасность государства в конце XVIII века поднялась на невиданную высоту.
После ухода Литты, Фроберга и Робертино патер Грубер кликнул Магду и приказал себе горячего молока.
Чернобровая Магда подняла спросонок черные брови. "И только?" – словно бы удивилась она.
– Первый ход я, кажется, выиграл, – сказал патер Грубер, потирая сухие руки.
Романтическую историю о духовном удочерении сироты Магды, по примеру святого Игнатия Лойолы, мы изложим в своем месте. Пока же скажем только, что ум чернобровой полячки Магды из Мазовии был иезуитским еще до того, как она познакомилась с иезуитами. По крайней мере, знаменитая заповедь Лойолы "Средство и есть наша цель" вошла в Магду с молоком матери.
Магда накрыла стол, влила в молоко кагору.
– Или не выиграл? – сказал патер Грубер, подхватил чашку, отставив мизинец с огромным перстнем.
– А что? – отозвалась Магда.
Она сидела напротив батюшки, подперев мягкий белый подбородок мягкой белой рукой.
– Болваны, кажется, сломали рыцарю руку. Кто его просил защищаться? Отдай кошелек – и руки целы, и пастыри довольны. – патер Грубер ухмыльнулся. – Заплатить головорезам из кошелька жертвы – разве не красиво? Я выхожу, они с кошельком убегают – простой вопрос! Не сумели. Кто теперь будет платить?
Патер Грубер раздраженно отхлебнул коктейля.
– И заплатите, – сказала Магда.
Грубер посмотрел на то место, где распахнулся на груди Магды шелковый халат.
После первого же знакомства патер Грубер стал называть чернобровую полячку "Магда гарна", то есть "пригожая Магда", – по созвучию со знаменитой буллой папы Павла III "Магна карта", даровавшей Ордену иезуитов индульгенцию на все прошлые и будущие прегрешения.
– И откуда там Фроберг взялся? – задумчиво сказал патер Грубер. – Странное совпадение. Очень странное… М-да. Два католических ордена в России – слишком много. Если в Россию проникнут мальтийцы – вся апостольская паства потянется сюда. Богатая, заметьте, Магда, влиятельная паства.
– Богатая – это хорошо, – позевывая, поддакнула Магда.
Магда видела, что патеру хочется выговориться. Но в третьем часу ночи… Если женщина в третьем часу ночи наедине с мужчиной хочет спать, это означает только одно: мужчина уже давно уснул.
– А почему это все побегут вдруг к мальтийцам? – нехотя спросила Магда.
– У госпитальеров авторитет – раз, – с удовольствием принялся объяснять патер. – Госпитальеры не запрещены, как мы, грешные, – два. И являются любимцами папы…
"Три" – было любимым числом патера Грубера.
Магда, конечно, и сама любила поговорить. И даже послушать. Но о делах мужчина должен говорить с единственной целью – убедить женщину, что у него другая цель.
– Врага, Магда, нужно иметь другом, – продолжал между тем патер. – Тогда его легче скомпрометировать. Сначала использовать как таран… – патеру понравилось собственное сравнение. – Католический таран! А когда брешь пробита – скомпрометировать!
– Вы молодец, – сказала Магда, позевывая.
Она не поняла, что такое "скомпрометировать", но про таран ей понравилось.
– Например, в глазах папы, – вдохновенно кивнул патер. – Исповедника у Литты в России пока нет. Католические священники, слава Богу, еще толпами по Питеру не бегают…
– Свято место пусто не бывает, – откликнулась Магда и снова зевнула.
Патер увидел ее чудесные белые зубы и даже немного розовой мякоти зева.
– Надо успеть, – сказал он.
– Успеете, – кивнула Магда. – А как он? Хорошенький?
– Да так себе, – сказал патер. – Угрюмый. Но Павел его за это любит.
– Кого любит? – Марта усиленно моргала глазами.
– Фроберга.
– А-а, – сказала Магда. – Любит – это хорошо.
Джулио не был ни напуган, ни даже удивлен происшествием на Лиговском канале.
Восьмилетний Джулио, в первый раз допущенный к ужину с гостями, испугался хлопка от пробки шипучего фалернского и с ревом кинулся к матери. Герцог смерил сына взглядом и холодно сказал:
– Подите в детскую. Трусы мне неинтересны.
Привязав веревку к вороту флагштока на башне, Джулио утром спустился по стене к кабинету отца – испросить прощения. Он уже встал на каменный карниз; уже герцог увидел за окном сына и, притворно нахмурившись, двинулся к окну; уже Джулио отклонился назад, чтобы дать отцу распахнуть наружу створки, когда веревка лопнула.
Веревка перетерлась о битый край черепичной кровли, и Джулио рухнул навзничь на газон, плетьми разметав руки.
Он не мог вдохнуть, и только глаза расширялись и расширялись. Поплыл газон, и старый граб под окном герцога плавно перевернулся кроной вниз…
Отец, подбежав, увидел вытянутый в трубу, побелевший рот ребенка, схватил за плечи и сильно встряхнул. Джулио с хряском, будто втолкнули в горло пучок сухой соломы, вдохнул и со следующим вдохом почувствовал адскую боль в левой руке.
Этот кульбит словно бы насмерть прихлопнул там, в верхушках легких, студенистый орган, где располагается страх за тело.
Рука в кисти срослась чуть набок, однако набрала такую силу, что гнула меж пальцев лошадиный мундштук. Тогда как правая была обычной, вполне обычной правой.
И вот снова – левая…
После отъезда Литты из Гатчины Павел Петрович вызвал Фроберга.
– Начнется охота, – сказал Павел. – Уж слишком он какой-то… восторженный.
Фроберг кивнул.
– Для чего ей орден? – задумчиво продолжал Павел. – У нее есть интерес. Нет? Что-нибудь по флоту…
Фроберг исподлобья смотрел на великого князя.
– А мне он просто понравился, – сказал Павел Петрович. – Бескорыстно. Что ты на меня смотришь?
– Нет корысти, – медленно сказал Фроберг, – значит, нет друзей…
Павел в свою очередь странно посмотрел на шурина. "А Кутайсов? А Аракчеев, Ростопчин?" – подумал он.
Фроберг недобро усмехнулся и покачал головой.
"Потемкин, Орлов, Безбородько", – сам собою встал в голове Павла Петровича могучий ряд матушкиных друзей.
– Да, не шибко! – высоким голосом сказал Павел Петрович. – Именно поэтому она не захочет, чтобы мы с Литтою подружились. Поэтому мы подружимся, я тебе обещаю. – он с вызовом поглядел на Фроберга.
– Вы – мне? – удивленно процедил Фроберг. – Это я вам обещаю, ваше высочество.
Александра Васильевна Браницкая, в девичестве Скавронская, получила письмо от сестры.
"Любовь моя ненаглядная! – писала Катя. – С последней почтой не пришло от тебя известий. Стало быть, тебя мучают вопросы".
"Странная логика", – подумала Александра.
"Отвечаю. Головкин по-прежнему боится даже платья коснуться. Мысль о женитьбе на тебе, душа моя, не позволяет. Трудный выбор для русского мужчины: девственная вдова или замужняя дева. А был ли у тебя когда-нибудь рыжий?"
Александра опустила руку с письмом, мгновенно представив интонацию, с какой Екатерина задает последний вопрос. "Ехидна. Давно не виделись, вот и мимо стреляет, мимо. Александра и гетмана в жизни не ревновала, куда уж рыжего… Притом еще к кому! Все одно неприятно".
Потемкинские игры втроем с племянницами имели, конечно, много последствий, но среди них одно весьма неожиданное: Александра Васильевна имела привычку размышлять о себе в третьем лице.
С другой стороны, писать письма стало одним из немногих и любимых Катиных удовольствий. Все-таки письмо – это тоже кто-то третий.
Гаврила Романович Державин, получив однажды Катино письмо, тяжело задумался, а потом записал в дневнике: "В Екатерине Васильевне Скавронской шустрый лисенок темперамента дремлет так глубоко, что извлечь его из норы на свет способен только робкий фокстерьер эпистолы". Повертел в пальцах перо. "Красиво. Только отчего же фокстерьер – робкий?" – туманно подумал Державин.
"Папа по- прежнему говорит глупости, -читала дальше Александра. – А как Григорисаныч?"