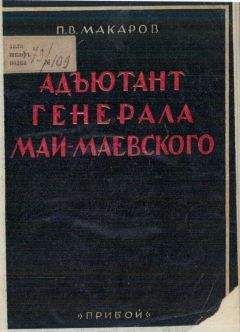Ознакомительная версия.
– Э-эй!.. вперед, паря, вперед!.. столица наша… Выпустим на свободу наших сородичей, братцы!.. Разобьем стены тюрьмы!.. Все, китайцам секир башка, наши, русские люди на волю выйдут… сколь же там они народу уморили, ох, дья-а-аволы!..
– Пригнись, Федюшка!.. – Крик Еремина, скакавшего голова в голову с Крюковым, ножом вспорол густой от мороза воздух. – Береги-и-ись!..
Федор успел пригнуться, и пуля просвистела мимо, сбив с головы папаху. Ударив плетью коня, Федор поскакал вперед, опередив Николу Рыбакова и старика Еремина. Тюрьма была рядом, за поворотом. В ночи она выглядела застылым каменным чертогом, молчащим осажденным монастырем. Там, сям высвистывали, прорезая ночь, выстрелы, становясь все реже. Ворота тюрьмы казаки, безбожно матерясь, дико наскакивая на храпящих конях вперед, поднимая лошадей на дыбы, разбивали прикладами. Пешие уже тянули выломанное из горящей избы черное бревно. Размахнувшись, разбегались с бревном в руках, беспощадно тараня крепкие, с железными заклепами, ворота.
– Э-э-э-эх!.. взяли!.. Еще!.. взяли!.. Э-э-эй, еще ра-а-аз!..
Ворота подались, затрещали. Будто разорвалась с натугой крепкая ткань, распахнулись, смеясь зевом черной пустоты. Казаки хлынули внутрь. Врывались в камеры, сбивая замки, высаживая двери колунами, прикладами, разъяренными телами. Слышались крики: «Генерал баял – тута полно колчаковских офицеров сидит!.. Ослобождай их, паря!.. Разводи костры во дворе!.. Ни зги не видать…» Ночь заполыхала огнями. Казаки быстро сложили, запалили в тюремном дворе костры, грели руки, отхлебывали из фляг тайно припасенную водку. Рыбаков, вместе с другими казаками, навалился на изгрызенную мышами и крысами, забухшую огромную дверь на первом этаже тюрьмы. Дверь треснула, подалась – и повалилась внутрь камеры. Упала на пол с грохотом. В наступившей тишине раздался слабый, хриплый голос:
– О-ох… братцы… русскую речь слышу… неужто… спасите… спаси-и-и…
Никола вбежал в пустую страшную комнату. На отсырелом потолке гуляли трещины – разводы, потеки, – будто китайский художник тонкой кисточкой написал о жизни страшные письмена. На полу не было ничего – ни матраца, ни подстилки, ни тряпки. «На голых досках спал», – догадался Рыбаков. Навстречу казакам, спотыкаясь, вытянув вперед дрожащие костлявые руки, с подслеповатыми глазами и трясущейся губой, шел сутулый, сгорбленный человек. Человек ли?! «Зенки как у зверя… Клыки желтые – над губой торчат… Эх, а худ-то как, инда заморили его тут, сердешного…» Рыбаков вовремя метнулся, поддержал узника под локоть – он едва не повалился от слабости к ногам казака.
– О-о-осподи… услышал молитву мою… счастье… это же счастье… родимые, братушки…
Из затянутых бельмами глаз узника текли слезы, таяли в сивой, седой неряшливой бороде. В камере гадко пахло. Прикрытая доской параша стояла в углу. Рыбаков встряхнул страдальца, как встряхивал бы рухлядь на рынке, поволок к двери.
– На воздух, на воздух, брат!.. Откуда ты?.. Как попал сюда?..
– Я?.. Я – ротмистр Куракин, из армии… бедного нашего, славного… адмирала…
– Колчаковец?.. Счастье твое, что китайцы не отодрали тебя бамбуковыми палками до смерти, все мясо не сняли… Били?..
– Били, казак… Я кричал: расстреляйте меня!.. как моего адмирала… стреляйте в лицо, просил я, глаза не завязывайте…
– Давай, давай, ротмистр Куракин, – бормотал Никола, выволакивая несчастного во двор, к полыханью костров, – дыши глыбко… Лехкия прочищай… Да не реви ты, мужик ведь!..
Ротмистр, не стесняясь, плакал в голос – от зимнего жесткого воздуха, ударившего в грудь, от сиянья огней под черным небом, от воли и свободы, накатившей внезапно, дикой японской волной-цунами. Его исхудалое, избитое тело мелко дрожало, он не мог поднять ослабевшие руки к лицу, чтобы вытереть слезы. Мокрое лицо отер ему Рыбаков – будто кто толкнул его в спину, повинуясь внезапному порыву острой, мгновенной жалости, он поднял захолодавшие без голиц на пронзительно-беспощадном ночном ветру руки и ладонями вытер с лица ротмистра соленую, быстро текущую из глазниц влагу.
Казаки били прикладами окна тюрьмы. Стекла звенели и рассыпались в морозные, ледяные осколки у ног. Мат, смех висели в воздухе. Костры полыхали ярко и жадно, огонь рос, гудел, в пламя летело все, что подворачивалось под руку – выломанные из стен доски, оконные рамы, ящики из-под капусты и лука, тюремные, никому теперь не нужные бумаги из сейфов и шкафов, раскуроченные столы и стулья из чиновничьих кабинетов. Огонь жадно жрал человеческие изделия, отбросы, мусор, вздымался все выше в смоль зимней ночи. Искры разлетались в стороны, крошились оранжевым зерном, золотым обжигающим песком. Никола Рыбаков протянул руки к огню, повертел их, погрел, выдохнул:
– Красота-то неописуемая, а!.. Как думашь, ротмистр?.. Слобода?.. Слаще слободы нетути никаво, так?.. Верно балакаю?..
Узник глядел прямо на огонь белесыми, затянутыми серой плевой неподвижными глазами. Так бы Будда глядел на огонь.
Рыбаков всмотрелся в лицо узника. Ротмистр был слеп. Он ослеп в ургинской тюрьме в камере без единого окна, просидев без света, в темноте, без малого два года.
И настала тишина. Настала такая тишина, которой не знала Урга.
Такую тишину знала степь.
Горы знали такую тишину.
Умирающие больше не стонали. Кони больше не высекали искр из камней мостовых. В морозном небе молча висела Луна. Ее желтое раскосое лицо, изрытое морщинами вечности, насмешливо скалилось, видя жалкие страдания насельников Земли.
Если ты провезешь хоть три шага колесницу Майдари, ты возродишься для жизни в его будущем царстве.
Монгольское поверье
Пламя в светильниках колыхалось, таяло, медово вспыхивало, испуганно билось на сквозняках, будто вздрагивали чьи-то живые тонкие, насквозь просвеченные пальцы. Статуя нефритового Будды, гладкого, словно облитого маслом, переливалась, светилась, – так светится изнутри разрезанный на дольки лимон. Пахло сандалом, воском, свечным нагаром, медом. Ламы в ярких, ослепительно-праздничных одеяниях казались вестниками небес, слетевшими на землю. Длинные атласные рукава ниспадали до полу; ало-золотистые, густо-синие, небесно-голубые, бруснично-красные, перламутрово-малиновые дэли наполняли храм Цогчин цветным, праздничным безумием – будто гигантский павлин, внесенный под своды святыни, внезапно развернул свой драгоценный хвост. Гудение голосов лам поднималось ввысь, к потолку. Быстрый шепот тайных молитв пронизывал теплый, маревом плывущий воздух.
В Гандан-Тэгчинлине служили благодарственный молебен.
Лама с красивой, в виде птичьего когтя, ярко горящей в полутьме золотой серьгой в коричневом ухе стоял ближе всех к священному бронзовому Очирдару – Будде Ваджрахраре – Держателю Молнии. По стенам висели новогодние дарцоги – разноцветные хвосты и тряпицы из тонкой халембы; на них тонкой китайской кисточкой были написаны, а то и вышиты черным шелком благодарственные молитвы и знаменитое, вечное как Вечная Белая Гора Канченджанга, тибетское заклинание: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ». Лама с золотой серьгой вздрогнул и обернулся, когда сквозняк усилился: сзади него, в храмовой стене, тихо приоткрылась дверь. Холодный зимний воздух, ворвавшийся снаружи, взвил пламя светильников, пошевелил полы ярких дэли, халатов и накидок лысых лам, старательно поющих хвалу великому Майдари.
Огромные священные трубы исторгли басовые сиплые звуки. Башкуры – храмовые кларнеты – заливались, как соловьи. Лама, стоявший сзади Золотой Серьги, наклонился к нему и тихо прошептал:
– Доржи-гэгэн, к вам пожаловали. Незаметно выйдите. Знаете, Захадыр горит?..
Человек с золотой серьгой в мочке осторожно сделал шаг, другой вбок, к полуоткрытой двери. Лама в винно-красном дэли, улыбаясь, занял его место у бронзового Очирдара, скрестившего бронзовые руки на груди.
* * *
Он скакал на своей белой кобыле Машке, вцепившись мертвой хваткой в повод.
Копыта лошади громко цокали по булыжникам мостовой. Цок-цок, цок-цок. Ему казалось: копыта выговаривают – «цаган-цаган, цаган-цаган». Цаган, белый. Он белый, и глаза его белы. Он здесь Белый Царь – Цаган-Хаган. Он, а не казненный Николай; а не отрекшийся Михаил.
Над Захадыром вился уже слабый, черно-сизый дым. Пожар потушили. Он опоздал.
Он хотел взглянуть на огонь.
Он всегда хотел глядеть на огонь.
«О ты, восстающий из вечного пламени…»– вспомнилось ему начало древнего буддийского гимна. Кто поджег рынок? Ему сказали – базар горел сплошняком, пылали, занимаясь, пыхая черными клубами гари, чадным дымом, бешено летящими искрами – золотым прошивом ночи – амбары, лабазы, лавки, телеги, склады, ящики и сундуки с завезенными товарами, и народ, узнав о том, что Захадыр горит, побежал-потянулся сюда – соблазн утянуть, слямзить, украсть под шумок, в гудении огня, хоть малый кус чужого – да даром! – был неодолим. Мародеры. Собаки. В каждом народе есть свои собаки. Русские собаки. Китайские собаки. Еврейские собаки. Монгольские собаки тоже есть. Кусачие, бессмысленные… клыкастые. А в ночи появляются красные собаки. Трупогрызы. Они едят и треплют трупы, выброшенные за город, к реке, на зады, за лабазы Маймачена, за субурганы Мижид Жанрайсига.
Ознакомительная версия.