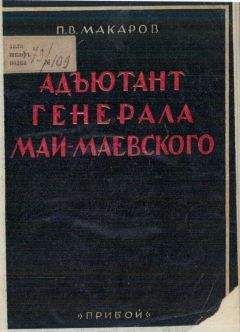Ознакомительная версия.
Сипайлов одним ударом ноги выбил из-под нее ящик. Попробовавшие огня, некрепко сколоченные доски, гвозди, щепки, рыбья чешуя разлетелись, брызнули в стороны. Повиснув в петле, монголка бессознательно, судорожным движеньем поднесла руки к горлу, пытаясь ослабить хватку петли. Перебитый веревочным жомом шейный хрящ свернул ей голову набок – так охотник сворачивает башку убитой утке. Индиговая далемба синими струями стекала с ее груди, с бедер. Она дергалась, вися, немного дольше, мучительней, чем ее товарка. Она не хотела умирать.
– Ли Вэй, – пробормотал барон, повернул лошадь, встряхнувшую заиндевелым белесым, будто седым, хвостом, и поскакал прочь от ворот Захадыра.
Сипайлов и Бурдуковский, не оглядываясь, поскакали вслед за генералом.
Старая бурятка все сидела у бочки с медом, раскачивалась из стороны в сторону, подвывала, шептала непонятные, будто шаманские, заклинания.
Две молоденькие монголки, своровавшие шелковую материю из разбитой китайской лавки, висели на воротах Захадыра еще целую неделю, устрашая народ. Их лица-маски, распухшие, чудовищно посиневшие на лютом морозе, пугали детей. Вороны выклевали им глаза. Они справляли свой, посмертный праздник Цам. Ветер трепал черные, с синим отливом, густые волосы.
У девушки, обернутой в синюю далембу, в смоляных косах бело светились седые пряди. Когда ее вешали, она поседела, а люди, таращась на мертвое тело, думали: куржак посеребрил девичьи косы, знатные морозы стоят в Урге в этом году.
* * *
– Оставь меня одного, Максаржав.
– Изволь, Дамби-джамцан.
Максаржав поклонился и вышел. Джа-лама остался один в комнате с высокими сводами.
Итак, Унгерн взял Ургу. И сейчас печется о монголах и об их будущем так, как если бы он сам был монгол.
Печется или делает вид? Джа-лама повертел на пальце кольцо с ярко-синим прозрачным камнем. В перстне Ригден-Джапо, по поверью, тоже горит сапфир. Унгерн говорил – сапфир был и в кольце царя Соломона, и внутри кольца, по ободу, царь приказал выгравировать надпись: «ВСЕ ПРОХОДИТЪ».
Все пройдет, пройдет и это. Пройдет барон Унгерн с его сумасшедшими войсками, с гуртами его казаков и мужиков, ставших под ружье сражаться «за Царя», с его Татарской сотней и Тибетской сотней, оголтело мчащимися по опустелым улицам напуганной новым завоевателем столицы. Войны набегают и откатываются, как кровавый прибой, люди убивают друг друга, а потом опять любятся и рожают, и все начинается сначала.
Что такое время, Дамби-Джамцан? Ты знаешь об этом?
Синий камень ярко высверкнул, резанул по глазам, погас. Он вспомнил – во лбу каменного Будды, того, что сидит, скрестив ноги, в одном из знаменитых храмов Лхасы, сверкает сапфировый Третий Глаз. Возможно, времена сменились, и Третий драгоценный Глаз выковыряли захватчики, украли ночью воры, и Будда не зрит более ни прошлое, ни будущее. Настоящее увидеть – и то смертному не дано. Только Богу.
Джа-лама вскинул голову и поглядел на часы. Скоро должен прибыть его верный Доржи. Он привезет ему известие от Ружанского.
Тихо, не думай. Мысли тоже звучат. Посвященный их может подслушать. То, что затеяли Иуда и Ружанский, опасно – в том случае, если их откроют. Зачем Иуда приезжал к нему со своим братцем-атаманом и с его молоденькой женой? Девчонка, сразу видно, неглупая, глазами так и стрижет. А хорошенькая. Такие смазливые нравятся мужскому сословию. Да, Терсицкая из тех женщин, что, проходя по жизни, лишают покоя и разума мужчин, а порой и отнимают у них жизнь; он знал немного таких женщин – калмычку Эрле в Астрахани, из-за которой насмерть дрались пьяные купцы в кабаках, японку Марико, переходившую в Маньчжурии из рук в руки, пока ее не прибрал к рукам русский генерал Завьялов, взятый в плен и расстрелянный в Иркутске сразу после Колчака; и русскую красотку Зазу Истомину, салонную певицу, что исполняла старинные русские и цыганские романсы, крася губки бантиком, прижимая маленькие игрушечные ручки к полуобнаженной, фаянсово-белой груди: ее первый муж повесился из-за ее похождений, ее второго мужа застрелили на дуэли, ее третий муж пропал без вести в лесах Хамардабана, оставив записку: «Хочу найти тебе, божественная моя, волшебной красоты лазурит». Самоцвет для любимой жены он не нашел и обратно не вернулся – скорей всего, его задрал медведь-людоед или загрыз барс. Джа-лама был с ней, с Зазой, всего две ночи. Он запомнил две этих коротких летних ночи на всю жизнь. Дело было не в страсти, которую он к ней испытывал и которую она показывала ему. Она и в угаре вожделения оставалась странно недосягаемой, вызывающей тоску, исторгающей у мужчины, обнимавшего ее, слезы сожаления – по недостижимо прекрасному, колдовски небесному.
Да, таких женщин он знал; и точно такой была еще одна женщина – китайская принцесса Ли Вэй, жена барона Унгерна. Барон прожил с ней всего ничего; зачем он исковеркал ей жизнь? Ее убили – после того, как Унгерн выгнал ее. Да, он выгнал ее, по китайскому обычаю отправив к родне с сундуками разного добра и с утешительно-толстым кошельком, и, наверное, она плакала в одиночестве; и, может быть, милостив к ней был тот, кто навек избавил ее от страданий брошенной женщины.
Внизу, под окном, кто-то длинно, протяжно свистнул. Джа-лама вздрогнул, встал быстро и резко, как подброшенный пружиной, осторожно подошел к окну. Чуть отодвинул рукой гардину. То, что он увидел, произошло так стремительно, что ему показалось – он видит кадр из синематографа.
Сторожевой всадник в островерхой шапке, как влитой, сидевший в седле на коне под окном Дамби-Джамцана, оглянулся на свист. Он не успел сдернуть винтовку с плеча. Стрела просвистела, и в ровно в это самое время перед мордой коня часового быстро, резво проскакал еще один конь. Ярко-синее, будто фосфоресцирующее в ночи, развеваемое ветром дэли. Доржи!
Стрела, ты нашла, кого искала?
Кого ты нашла, стрела?
Часовой качнулся вперед, на мгновение закрыв телом синее дэли, и стрела вонзилась ему прямехонько между лопаток. Он вскинул руки. Через стекло не слыхать было предсмертного хрипа… или крика. Валясь грудью на изогнувшуюся в ржанье шею коня, он пытался удержаться в седле – не смог. Безобразно, жалко сполз на землю, и нога его застряла в стремени, вывернутая, как у тряпичной детской куклы. Доржи не спрыгнул – выпрыгнул из седла вмиг; подбежал к убитому, на ходу выхватывая из кармана дэли револьвер, наставляя его в темноту. Никого. Тишина. Ни свиста. Ни топота копыт. Только изморозь звезд в зените. Только мертвый часовой на земле, со стрелой в спине, и оперенье дрожит на ветру.
Джа-лама, застыв у окна, как мертвый, следил, как пятится к крыльцу замка Тенпей-бейшин Доржи, слепо целясь то туда, то сюда, резко поворачиваясь: ну же, где ты, убийца!.. – и раз, другой для верности выстрелив в кромешный мрак. Дверь хлопнула. Выскочили двое часовых, стали беспорядочно палить в пустоту. Доржи жестом остановил их, влетел в двери синим вихрем.
– Они убили часового! Зачем?!
Джа-лама все еще стоял у окна. Так и не повернулся к Доржи.
– Глупец. Они хотели убить тебя. Ты им не нравишься.
– Кому?!
– Тому, кто это с тобой хотел сделать.
– Послушай, Дамби-Джамцан. – Молодой лама перевел дух. – Если ты с нами – то послушай! Если ты с Унгерном… то…
– Я? – Джа-лама обернулся от окна. Его тяжелое, одутловато-неподвижное лицо напоминало медную маску. – Я был с ним. Я устал от него. Хотя, знаешь, если он попросит помощи под ножом врага, который захочет рассечь ему грудь, чтобы вырвать сердце, – я подойду и размозжу череп его мяснику. Но Унгерн чужак, Доржи. Унгерн – сумасшедший немец. Я чувствую в себе кровь моих предков. В нем я чувствую кровь его предков. Его предки не дают ему покоя. Они загрызут его изнутри, если он не будет все время варить на земле кашу смертного боя.
Доржи задыхался. Он был бледен, бледность проступала сквозь медный закал аратской кожи. Золотой коготь серьги в ухе блеснул хищно.
– Ты тоже варил кровавую кашу в котлах земли, Дамби-Джамцан. Я не об этом. Послушай! Мне кажется, женщина, которая завербована Ружанским и работает на нас, на самом деле работает еще на кого-то другого. Хотя она незаменима, она… – он сглотнул слюну. – Она в самом сердце ставки, в самом логове… но… мне кажется… у меня нет доказательств… Ружанский заподозрил ее… он видел нечто…
– Что видел поручик? Договаривай.
Джа-лама отвернул медный тяжелый лик к ночному окну. На столе перед маленькой статуэткой Очирдара тихо тлела красная ягода лампады.
– Она обливалась водой на берегу Толы… мылась… и поручик случайно оказался рядом – привел на берег почистить коня… Я не знаю, может быть, поручик приставал к ней! – Лама выпрямился. – Мужчине, не пошедшему путем Четырех Истин, не возбраняется ведь быть подверженным земным соблазнам? Как бы там ни было, поручик увидел у нее на теле знак…
– Договаривай.
– Все могло быть. Поручик мог спустить у нее с плеча ворот платья, пытаясь поцеловать ее… а может, она разделась, стояла на снегу, под солнцем, растиралась снегом, зачерпывала воду ковшом из проруби, обливалась… и Ружанский смог все, всю ее хорошо рассмотреть…
Ознакомительная версия.