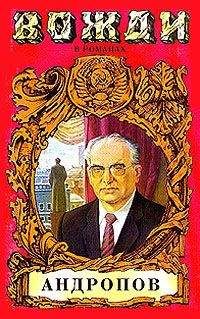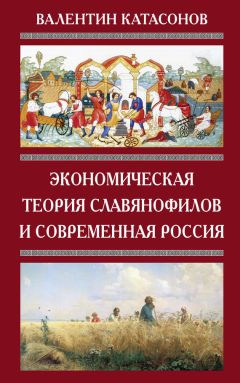Они оказались у стойки бара. Молодой бармен, стройный и мускулистый, в облегающем фиолетовом трико из прозрачной ткани, чью обнаженную грудь украшал золотой медальон с изображением Георга III, поставил перед ними три больших бокала, наполненных темным с гранатовым отливом вином.
— Этот напиток, господа,— тихо сказал Станислав Ратовский,— вы можете отведать только в нашем клубе, и нигде больше на земном шаре. Он так и называется — «Георг III». И выпить первый бокал надо до дна. Таков закон клуба.
Вкуса вина Владимир Александрович не ощутил — сразу перехватило дыхание, он пил мелкими глотками, потому что вино было густое, терпкое, его приходилось глотать с трудом. И пока он пил, на него не мигая смотрел молодой бармен, в его черных, казалось без зрачков, глазах, был зов…
— Вот и отлично,— засмеялся господин Ратовский,— Сейчас возникнет новое состояние.
И оно возникло…
У Владимира Александровича Копыленко походка сделалась легкой и молодой, он наполнился жизненной горячей силой — и желанием, желанием, желанием…
Он видел, что и его Пауль испытывает нечто подобное, а Ратовский… Наверно, тоже? Владимир Александрович, летя куда-то на крыльях, встретил взгляд Станислава, который, оказывается, тоже был в облегающем трико, только ядовито-зеленого цвета, и этот взгляд был пристально-внимательным и настороженным.
«В чем дело?» — захотелось спросить Владимиру Александровичу. И совсем не из-за страха — никакого страха не было,— а просто любопытно.
Господин Копыленко засмеялся от нахлынувшего счастья и прилива новых, неведомых ему раньше сил и ощущений.
Они все трое летели, летели…
Была бесконечная анфилада комнат, везде пылали камины, всюду были картины в тяжелых рамах — обнаженная мужская натура, торжество силы и вожделения, пир плоти, совокупления в самых причудливых невероятных позах…
В одной комнате, выдержанной в бордовых тонах, за ломберными столиками сидели чинные господа в смокингах, шла игра в карты — все было благообразно, замедленно, в камине бесшумно горели березовые поленья, и на породистых лицах, играли жаркие отсветы. На «экскурсантов» никто не обращал внимания. В другой комнате неистовствовал музыкальный ансамбль, и все музыканты, и молодые и пожилые, были в рискованных, мягко говоря, костюмах, подчеркивающих их животворящее естество. Стойку бара облепили влюбленные пары, которые были абсолютно свободны в своих чувствах. Другие танцевали в свете мерцающих, вращающихся цветных прожекторов. Ритм танца был стремительным, бешеным, подводящим к краю бездны. Иногда свет гас совсем, и только бар оставался освещенным, причудливо и страшновато: сверкание бутылок, движущиеся тени, рельефная фигура бармена, виртуозно наполняющего бокалы. Владимир Александрович окончательно потерял чувство реальности: «Где я? Что со мной?…»
— Дальше! Дальше! — торопил Станислав Ратовский, а Пауль Шварцман нежно обнимал товарища Копыленко за талию.
Комнаты, переходы, мраморные эротические скульптуры, жаркое дыхание каминов, бары, официанты, очаровательные юноши в темных трико, развозящие на столиках напитки и закуски: «Что изволите, господа?»
И вдруг они очутились в маленьком полузатемненном зале, где в удобных мягких креслах сидели одни глубокие дряхлые старики, устремив тускнеющие взоры на сцену. А там, на ворсистом ковре, в лучах ярких ослепляющих прожекторов, совокуплялись двое: он — рослый мускулистый негр, «она» — нежно и томно извивающийся белокурый молодой человек с кожей, лишенной всякого загара. Невидимый микрофон многократно усиливал их страстные стоны и хрипы.
Владимир Александрович был близок к обмороку, к сладостному отключению сознания, и его, кажется, вездесущий Станислав Янович Ратовский успел поддержать за плечи сзади, шепча:
— Все, все. Экскурсия закончена. И зачем нам это? Настанет срок, никуда не денется. А сейчас… Как говорят у вас в России, мы и сами с усами.
— Не понимаю, не понимаю…— разнеженно лепетал Владимир Александрович.
— У нас тут заказан кабинет.
…И они очутились в кабинете. Мягкий ковер во весь пол, кресла, диваны. Пылает небольшой камин — жарко, терпкий, кружащий голову запах не то жасмина, не то неведомых духов. Низкий стол заставлен бутылками, закусками, фруктами, ананас искусно разрезан и распустился розовато-белыми дольками, приобретя очертания изысканного живого цветка.
Владимир Александрович увидел на потолке (оказывается, он уже лежал на диване, и его полное тело погрузилось в нечто мягкое и податливое) искусно, вожделенно выполненное панно: мужская оргия во времена Древнего Рима среди мраморных ванн и колонн античной бани.
«Господи! Господи! Прости мою душу грешную!…»
— Это дверь в ванную,— звучал где-то голос Ратовского.— Эта — в сауну. Я предлагаю для начала выпить и закусить.
Выпили. Над бокалами колдовал Станислав Янович. Кажется, опять был «Георг III»? Закусили. Невидимые крылья носили Владимира Александровича под самым потолком комнаты, и он руками касался тел римских патрициев, предававшихся изысканной похоти, и чувствовал жар их потных тел.
— Вы, Владимир, будете любить нас обоих,— говорил где-то рядом Ратовский.— А мы вас.
— Это прекрасно, Володя…— шептал в самое ухо Пауль Шварцман, щекоча его чуткими губами.— Это прекрасно… А мы с тобой все равно… всегда… на всю жизнь вместе.
Владимир Александрович блаженно чувствовал, как две пары умелых, нетерпеливых рук снимают с него одежду.
— Да! Да! Да!…— исторг вопль товарищ Копыленко.— Пусть!…
…Его разбудил странный звук: как будто кто-то громко и злорадно хихикнул.
Владимир Александрович Копыленко открыл глаза. Белый потолок. Голая убогая лампа в центре. «День или утро? И где я? Что со мной?» Тело было тяжелое, чужое. Голова отсутствовала. Не болела, а именно отсутствовала.
Заведующий отделом советского Внешторга (бывший, бывший заведующий…) рывком сел, и только тут в голове полыхнула резкая, огненная боль, отдавшись во всем теле. Очевидно, досталось и внутреннему голосу (похоже, этот беспокойный субъект сейчас помещался в области солнечного сплетения), потому что он еле слышно простонал: «Я тебя предупреждал, скотина».
Владимир Александрович, в одном нижнем белье из розового шелка, сидел на засаленной продавленной тахте. Маленькая замызганная комната: кроме тахты — стол с грязной посудой и остатками еды, несколько разномастных стульев; телевизор на широком подоконнике; окно снаружи забрано металлической решеткой. В окно светил ненастный день.
«День? — Товарищ Копыленко взглянул на ручные часы (они были целы).— Без двадцати два! Встреча в нашем торговом представительстве назначена на двенадцать. А в одиннадцать в «Империале» я должен был встретиться со своими!… Да что же происходит?»
Невероятно, но пока Владимир Александрович ничего не помнил о минувшей ночи.
«Меня ограбили? Усыпили?…»
Брюки, ботинки и носки валялись на полу, пиджак висел на спинке стула у окна. Наш несчастный герой вскочил с тахты и, шлепая по грязному полу босыми ногами, проследовал к стулу, судорожно сунул руку во внутренний карман пиджака. Бумажник был цел. Владимир Александрович дрожащими пальцами раскрыл его.
«Слава тебе, Господи!» Все деньги были на месте, он даже не стал их пересчитывать: купюры — он помнил — лежали в том порядке, как вчера были распределены им по отделениям бумажника.
«Значит, не грабеж? Тогда что же?… А… А где баул?…»
Владимир Александрович зарыскал сумасшедшим взглядом по комнате. Плащ на вешалке у двери (и больше там никакой одежды). Телефон на полу под столом. («Это хорошо, важно — телефон. Но где же…») Его дорожный баул лежал на одном из стульев, правда расстегнутый.
Товарищ Копыленко вздохнул с некоторым облегчением. Однако помедлил, прежде чем подойти к баулу. Подошел. Вещи были разворошены, перерыты. Но папка с документами цела.
— Цела!…— прошептал Владимир Александрович и раскрыл папку.
Она была пустой. Ни паспорта, ни удостоверения Внешторга, ни бланков договоров с печатями, ни обратного билета в Москву. Ничего…
Зубы товарища Копыленко произвели отвратительный скрежет, и он мгновенно покрылся липким холодным потом.
«Что делать? Полицию… Немедленно вызвать полицию! Какой у них в Вене номер? Тоже ноль-два?»
Владимир Александрович ринулся к телефону, упав животом на пол, схватил телефонную трубку — ни гудков, ни шорохов… «Отключен…» — обреченно подумал товарищ Копыленко, чувствуя, как под телефонной трубкой взмокло ухо от пота, и он осознал, что жизнь его — прекрасная, обеспеченная, комфортная, привилегированная жизнь, кончена — он пропал…
Но тут в трубке щелкнуло, и возбужденный голос Станислава Яновича Ратовского сказал по-русски: