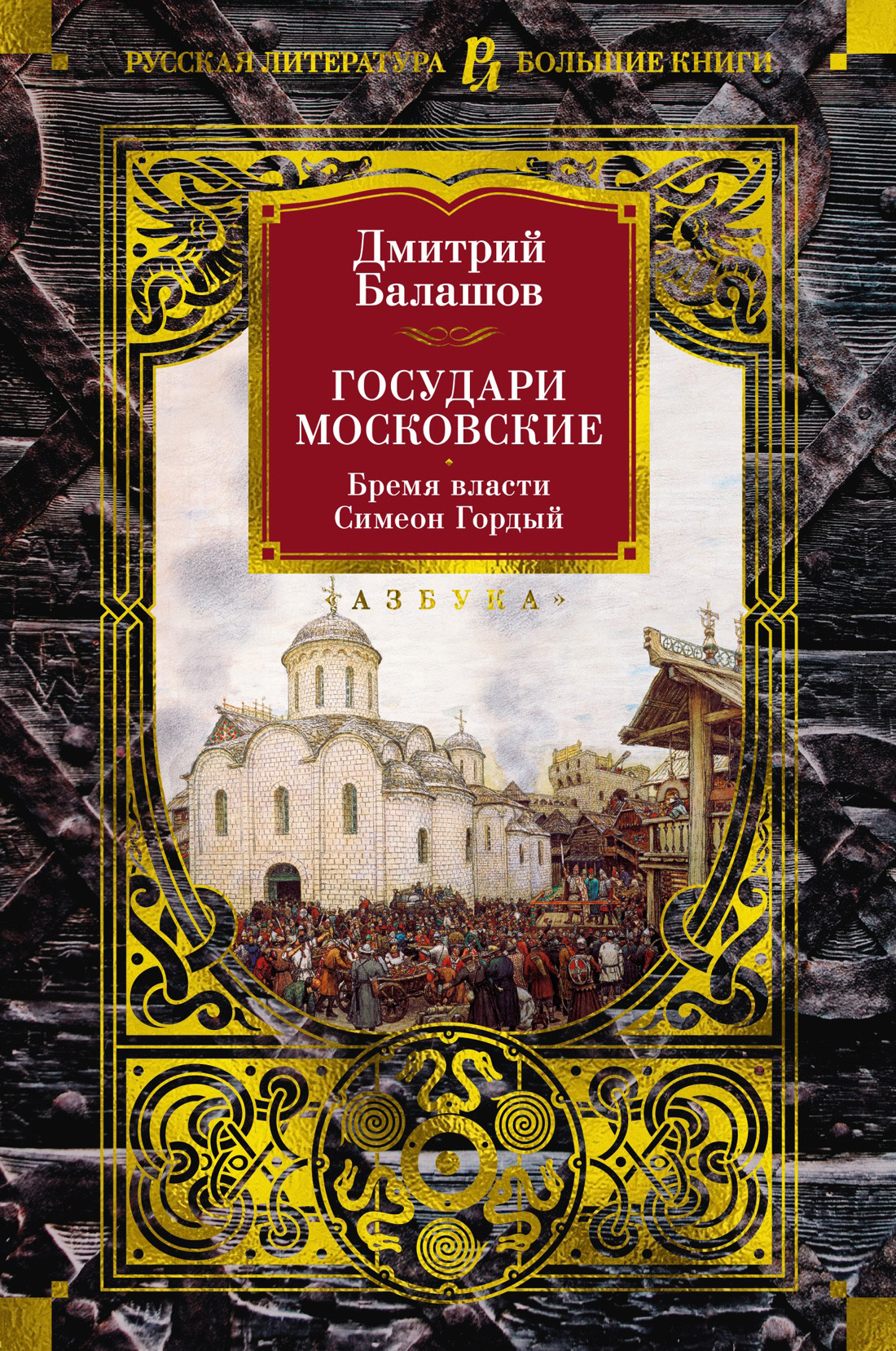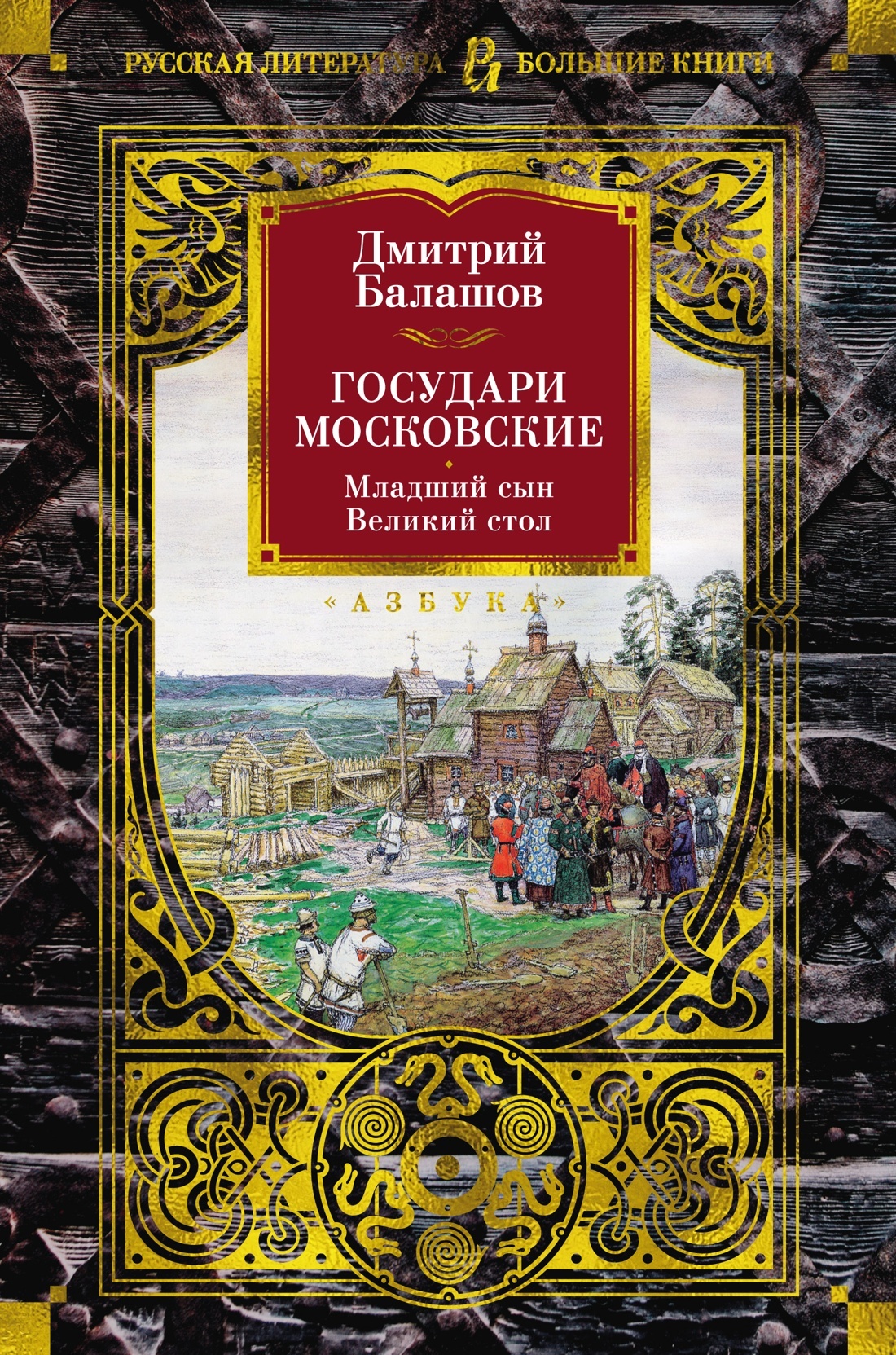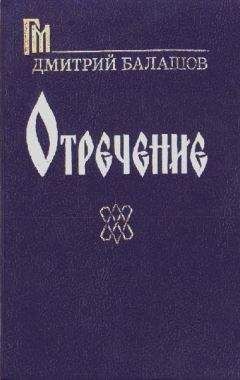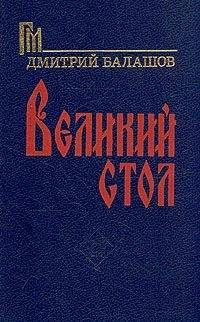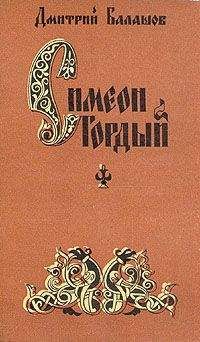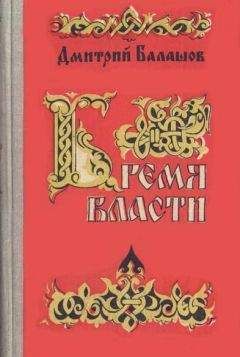не ест порою. И это каждый год и всю жизнь, невзирая на тощие лета, на дожди и мразы, губящие обилие, с единым упованием – Господу Богу своему. И пахарь вознагражден всегда, ибо жив народ и хлеб не иссякает у трудящегося в поте лица своего. И это чудо, ибо помысли, князь: единое лето токмо не была бы засеяна земля, и единым летом окончил бы гладом дни свои русский народ! Но прошли века, и лихолетья, и беды, и еще не настало лета без засеянных нив и без урожая хлебов! Тут недород, там война – привезут из соседней земли, из соседней волости. Кольми паче мы все, кормящиеся со стола пахаря, должны работати ближнему? И ты, князь, не прежде ли всех?
– А ежели – прилагаю труды, и пасу, и храню, но за грех, прошлый, минувший грех казнит и казнит мя Господь?
– Ты созвал меня, князь, сюда повестить мне что или спросить? Паки повторю реченное: кару надо принимать без ропота.
– Но свобода воли? Добрые дела? Значит, все тщетно и все предопределено свыше?
– Предопределенное – предопределено, прежде всех век! Об этом тебе глубже и вернее речет брат мой Стефан. А кара дается за грехи, совершенные в мире сем, а отнюдь не прежде всех век, не до создания мира! Только и то скажу: человек не один в мире, он отвечает и за род, и за народ, и за язык свой – за всех, ибо все вместе и вкупе. И это тебе ведомо, князь! Бояре в думе твоей гордятся делами предков, по местническому счету емлют почет и должности, по грехам предков теряют места и почет. Тако и Господь наказует за грехи обчие! Может и весь народ казнить за нечестье царей своих, может и царя казнить за грехи народа. Помысли о сем: ты что бы предпочел, князь?
– Труден твой выбор, монах, страшен и вышний суд! – мрачно отмолвил Семен, опуская голову.
– Нет! – светло и спокойно возразил Сергий. – Ведь не страшно тебе принимать воздаяние за праведные дела других? И о том помысли такожде: можно ли христианину думать о себе только? Тому, кто неложно служит Господу, монах он или мирянин, смерд или князь, все одно надлежит отвергнуть самость, забыть о величестве своем, ибо никто не выше Небесного Отца, и работати ближнему, забывая себя самого! Опять скажу: не трудно сие! Взгляни окрест и помысли, княже. Не токмо монах, но и всякая жонка в дому в печаловании о муже и детях не забывает ли о себе самой? Не есть ли этот пример вседневный всем нам в укор и в поучение?
Семен сидел, опустив голову. Монах говорил обычное, ведомое любому и всякому, но говорил необычно: получалось, что весь народ, все окрест него живущие, христиане суть и только он, князь, в гордыне своей мыслит надстоять над прочими, величаяся своею бедою. Мысль была несносна и рождала в его душе тягостный, быть может, греховный отпор.
– Но, значит, ежели свершено зло и кара неизбежна, – спросил он, угрюмо и прямо глядя монаху в глаза, – то напрасны и наши старания, тех, кто проклят свыше?
Сергий улыбнулся в ответ:
– Сам же ты не мыслишь этого, князь! – отмолвил с дружелюбным упреком. – И веришь, и хочешь видеть детей своих чистыми от греха? Как же ты добьешься сего, ежели покинешь всякое упование?
– Ну а злых, – не уступал князь, – тех, кто лишь для себя? Почему не наказует их Господь, иногда награждая и долгожитием, и роскошью в мире сем?
– Нашими ли смертными очами видеть истину? – усмехнулся Сергий. – Ежели у кого отнята жизнь вечная, долог ли для него самый долгий земной век? А дальше – пустота, ничто!
– Но ежели таковых много? – Князь подался вперед, вперив в монаха свой лихорадочный взор. – Не реку о себе, но ежели таковых много?!
Сергий осуровел лицом:
– Надобно помнить, – сказал, – что праведный неправеден есть, ежели снял с себя ответственность за грехи мира. Искуплением – покаянием, кровью, жертвою – смываются грехи. Христос сам взял на себя зло мира, взойдя на крест. Путь указан! И непрестанен путь жертвенности. Опять не надо измысливать излишней трудноты, князь! Такожде вот мужики идут на войну не с мыслию о наживе и грабеже, но зная, что идут умирать, защищая землю свою. Идут принести жертву за други своя. И чья жертва святее, те и побеждают в бою. Я говорю о главном. Надобны и тщание воевод, и оружие доброе, и обилие, и порты, и кони. Но и на все то такожде потребна вера и воля переже всего, дабы сотворить и, сотворивши, доставить, не расхитивши непутем. Трудитеся со тщанием о Господе, и воздастся вам!
– Инок! Помолись обо мне! – тихо просит Семен.
– Я уже благословил супругу твою, князь, и твое будущее дитя! Но молись и ты, молитва моя не святее иньшей. Не ослабы – набольшей трудноты и воли к преодолению ее надобно просить.
И почему Семен, не чаявший делать этого еще минуту назад, вдруг стал на колени и, стоя так, не стыдясь ни Алексия, ни Стефана, робко принял благословение от юного годами инока, непонятного ему и непонятно как, не говоря совсем утешительных слов, успокоившего великого князя, словно передав Семену часть своей незримой силы, часть света от своего светлого лица?
Выходили в глубоких потемнях. Сергий, отказавшись от возка, направил стопы к Богоявлению, дабы, соснув на мал час в келье Стефана, в сумерках раннего утра уже идти по дороге прочь от Москвы и вскоре, обув лыжи, унырнуть в лес, чтобы уже поздно вечером вновь читать часы в крохотной церковке в своей лесной далекой обители.
А у князя Семена с Алексием назавтра состоял о Сергии разговор.
– Мало их, и живут в ужасающей бедности, верно, как апостолы первых времен, – рассказывал Алексий слышанное от игумена Митрофана.
– Помочь им обилием? – готовно отозвался Семен.
– Нельзя. И не надобно! – со вздохом отверг Алексий. – Пробовал я… Вот что получилось из того!
Князь, нахмурясь, отвел глаза. Оба они любили Стефана и оба поняли недосказанное.
– Сложен и неуследим путь святости и подвига! – продолжал Алексий. – Надобно токмо не подавить, не сломать его в самом истоке, как редкое растение цельбоносное, на которое опасно наступити ногою. Не трогай его до поры! А там и возьми, и прими в себя благая и добрая, и вылечит тя! Тако и праведник в мире сем: от него, егда произрастет и выстанет, истечет свет надмирный и спасение во гресех сущим!