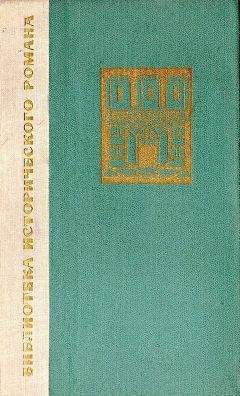— Этот город, — говорила Маша, — расположенный на границе трех государств, всегда был удобной резиденцией для разведчиков. В 1914 году меня едва не схватили здесь немецкие контрразведчики. Я выскользнула из их сетей каким-то чудом.
Обедали они на Рейнской улице, а вечером сидели в зоопарке, наблюдая за ужами в аквариуме, пожиравшими зеленых лягушат и древесных лягушек.
— Все это, — говорила Маша, — вполне соответствует друг другу: базельский церковный совет, Ницше, Гольбейн, Бёклин, колдуньи, сбрасываемые в Рейн, и ужи, глотающие древесных лягушек. Если хочешь изучать жизнь на грани смерти, приезжай в Базель! Это относится и к выборам в Германии. Приближается наш конец.
Маша смеялась. Широкополая шляпа затеняла ее лицо. Но в лучах заходящего солнца Ян в узком вырезе Машиной кофточки обнаружил мелкие морщинки, которых до сих пор не замечал.
Возвращались в город они по аллее бёклинских берез.
Их окружал запах гниения.
У старой Мартину все валилось из рук. Ей оставалось только плакать и тихо причитать.
Какой толк из того, что ей удалось упросить сына не возвращаться в Россию. Не сбылась ее мечта о доме, где она счастливо и спокойно будет жить среди внуков. Ее семья распалась. Вместо радости в нее вошел позор. Правда, никто ей не сказал об этом в глаза, но она чувствовала, что отношение к ним стало хуже, чем раньше.
Отъезд снохи и внука за границу был ударом жестоким и непонятным. Таня потерялась где-то в этой стране, которая так долго держала Яна в своих сетях. Мать бы еще не сердилась так, если бы Таня уехала одна. Но она взяла с собой внука, как будто только она одна имела право на ребенка. Ян с этим смирился. Он молчал и этим самым действовал еще сильнее на мать и отца. Он, конечно, переживал и, наверное, поэтому отдавался полностью работе в редакции, чтобы как-то заглушить горе. Он уже не сидел по вечерам с матерью и отцом на кухне и не рассказывал им интересные истории, как бывало прежде. Домой приходил поздно, а им говорил, что возвращается с работы. Конечно же это была неправда. Он просто искал, как бы ему развеять тоску, бедняжка… Но пьяным не приходил никогда.
Отец все время хмурился, но не говорил о Тане и не осуждал ее.
— Не очень-то мы ее здесь окружили любовью, — только и сказал он, когда она уехала.
Он стал долго спать по утрам, а в воскресенье уходил на кладбище.
Неожиданно из Дечина приехала Магдалена, привезла множество немыслимых подарков. Она без умолку болтала о том, что ее муж, пан Рюммлер, торговец, падает в пропасть. По ее словам, он занимался рискованным делом — контрабандой валюты. Экономический кризис сначала вознесет его на некоторое время, а потом так стукнет о землю, что у него затрещат кости. Пан Рюммлер уже не поставляет сахар в Левант. Все связи Рюммлера с Германией и Австрией пражские монополии прервали. Теперь ему конец.
— Я всегда говорила, что все это построено на песке, — проговорила мать.
— Но я без богатства уже не могу жить, — сказала Магдалена смеясь.
— А что будешь делать, если лишишься своего богатства?
— Не знаю.
Она начала рассказывать о моде на короткие юбки. Они такие короткие, что стыдливые женщины, садящиеся в обществе на диваны, прикрывают колени подушечками.
У Магдалены тоже была короткая юбка, и мать за это на нее рассердилась. Ведь она уже пожилая женщина! И эта пожилая женщина тоже не видела ничего плохого в том, что Таня уехала от Яна.
— Ушла и хорошо сделала. Если молодые любят друг друга, они опять сойдутся. Что ты знаешь, Андулка, о русской душе?
Андулка уже вообще ничего не понимала и поэтому была несчастной. Все было совсем другим в отличие от того, к чему она стремилась и за что целые годы молилась.
А тут еще это письмо из Женевы, в котором сын, отправившийся туда якобы на неделю, сообщал, что он переезжает в Париж и что срок его возвращения неизвестен. Это значит, что и сын убежал. Опять все стало так, как было во время войны и в течение шести лет после нее. Кто закроет матери глаза, когда она будет лежать на смертном одре? Кто будет заботиться об отце после ее смерти? Раньше молодые люди заботились о престарелых родителях. Теперь они убегают от них!
Самое страшное наказание для старого человека — одиночество. Одиночество — это прообраз могилы. Наказание — за что? Что плохого они сделали Яну, что он покинул их уже во второй раз?
Отец говорил, что у него такая служба, а со службой шутки шутить нельзя. Но зачем он искал себе такую опасную работу, находясь на которой одной ногой постоянно стоишь в тюрьме? Такую бродячую службу, которая гоняет его по всему свету? Зачем ему сдались эта Женева, этот Париж? Ян не стал разводиться. Это, конечно, хорошо, но ведь прошло столько времени, а они так и живут раздельно. Как он это объясняет? Любовь? Он ее любит, бедняжка, а она там занимается неизвестно чем.
Так причитала про себя мать, горько сожалея о случившемся и о наступивших временах.
На Жижкове можно было много всякого услышать, если даже заткнуть уши, как старый Мартину. Например, о том, что у Оренштейна увольняют рабочих, в то время как сам Оренштейн преспокойно отдыхает на Ривьере. Люди роптали. Роптали даже на Масарика. «Дайте нам работу, — слышались возгласы. — Не дадите, разнесем ваши фабрики и заводы на куски! Мы голодны! Вы за счет нас боретесь с кризисом, но это ваш кризис, а не наш! Почему мы должны за вас страдать?»
Мать Мартину слышала все это, и ее охватывал страх. Хоть бы не было опять грабежей, обычных для Жижкова в смутные времена. Неужели снова возвращается старое? А может, все это будет еще более ужасным?
Всюду говорят о надвигающейся новой войне. Войны, может, и не будет, но и одних разговоров о ней уже достаточно для того, чтобы человек перестал спокойно спать. Боже мой, неужели Яну снова придется идти на войну? Я бы стала тогда самой несчастной матерью.
Что за жизнь была с того самого праздника святой Анны в 1914 году? Как всегда, светило солнце, одно время года сменялось другим, цвели деревья, зрели фрукты, но не было никакой радости, никакого счастья, никакого веселья.
Так говорила мать сама с собой, так она пыталась говорить с испорченной Магдаленой и то же самое твердила старому Мартину.
Может быть, она испытывала такое отчаяние, потому что любила жизнь, которая становилась все короче. Она хотела остановить ее, насладиться тихой минутой, но это было выше ее сил. Все куда-то с грохотом неслось. Этого было слишком много на одну человеческую жизнь.
Выходи на ослепительно белую лестницу храма Сакре-Кёр и смотри на крыши города, самого очаровательного из всех городов. Небо над ним цвета глаз Аннабеллини, из труб, больших и маленьких, поднимается нежный дым, цветом своим напоминающий голубиное крыло.
Долго смотри! Потом прикрой глаза! Неожиданно по-варварски загудели колокола.
Пойди позавтракай в маленький ресторанчик за зеленым заборчиком под цветущими каштанами. Принесут тебе жареную рыбу, выловленную на побережье Нормандии, кусок свинины, привезенной из Бретани, артишок из огородов за городскими стенами и пахучий мягкий савойский сыр. К этому подадут белый хлеб и вино. Ты сыт и при этом легок, как перышко.
Маша в это время сидит у парикмахера и делает себе парижскую прическу. Выходит она из парикмахерской совсем другой, чем была утром. Вообще, женщины весьма изменчивы. Но нигде в мире они так быстро не меняются, как в Париже.
Вы выходите на улицы. Брусчатка горячая. Эти улицы широкие и симметричные, как строфа Виктора Гюго. И в то же время они запутанны, как стих Аполлинера. И все они пахнут бензином, вином и бананами.
С рекламных щитов на вас смотрит Жозефина Бейкер, танцующая с поясом, сделанным из желтых бананов. Бананы теперь в большой моде. Они оттеснили на задний план черешню и ароматные садовые ягоды, которые Парижу посылает Орлеан.
Вы идете на набережную Сены. По дороге листаете заплесневевшие книжки букинистов. Вот в руки вам попадают мемуары госпожи Роланд, а Маша рассматривает гравюры в стиле рококо: пастух целует выпуклые груди пастушки. Ее белый парик разлохматился. Рука пастуха с кружевной манжетой тянется к обнаженному колену.
Потом вы смотрите на реку. По ней плывут половинки апельсинов, кочаны капусты и дикие утки, гнездящиеся под кронами грабов и дубов в тени кафедрального собора Нотр-Дам.
Сена темно-зеленая и неподвижная. Только за двумя дикими утками вода покрылась рябью в виде двойного веера.
Под мостом вы наталкиваетесь на спящих. С каменных сводов, позеленевших от сырости и времени, капают известковые капли. Но там не идет дождь. Это убежище бедняков. В звездные ночи они спят в лодках. Этот мост был назван по имени лицемерного Луи-Филиппа, в то время как остров назван по имени Людовика Святого. В начале семнадцатого столетия этот остров не был еще заселен и здесь устраивались дуэли. И только в 1630 году, когда чехов вконец разоряла тридцатилетняя война, парижская знать начала возводить здесь дворцы.