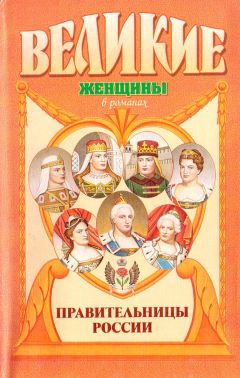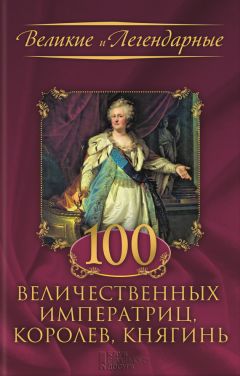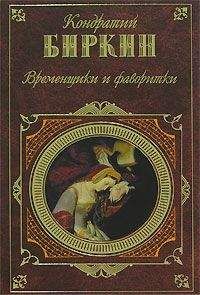Послы согнулись в наипочтительнейшем поклоне.
Василий Иванович встал. Встали и думные чины.
— А теперь прошу за трапезу, — иным тоном — не великого государя, а гостеприимного хозяина — проговорил Василий Иванович и, приняв из рук князя Ростовского посох, важно пошёл к двери, за которой расторопные слуги уже успели накрыть праздничные столы.
На следующий день после аудиенции было назначено освобождение Михаила Львовича из неволи.
...Первыми выскочили до двор и шмыгнули вдоль башенной стены два ката, что снимали с Глинского цепи.
Затем в дверном проёме показался и он сам — бледный, седой, изрядно похудевший, но такой же, как и прежде: прямой и надменный. Остановился, припав плечом к притолоке, и медленно обвёл очами небольшую толпу людей, молча ожидавших его на залитом вешним светом дворе.
Знавшие Глинского прежде придворные, присутствовавшие при его освобождении, люди во всём многоопытные, заметили нехорошие перемены в облике Михаила Львовича, увидев и то, что не сразу бросалось в глаза, — взор князя остался таким же, как и прежде: вызов, гордыня и упорство нераскаявшегося грешника, не таясь, плескались в его очах, и он не прятал эти сатанинские страсти, но, напротив, как бы говорил собравшимся: «Каким был, таким остаюсь, и пребуду таким же во веки веков». И, странное дело, выйди Михаил Львович согбенным и тихим, опусти он глаза долу или взгляни на людей робко и заискивающе — никто не поверил бы ему, всяк про себя подумал бы: «Хитрит, старый лис, таит, поди, мстительную злобу, да страшится выказывать всё это». А встретившись с его взглядом ныне, почти каждый из стоявших у дверей узилища испытал некое упоение — не всё и великому князю под силу, не всё и он может.
А ещё увидел Михаил Львович, что не было среди ждущих его ни великого князя, ни племянницы — Елены Васильевны. И, удивившись, прочли собравшиеся в глазах узника, не отыскавшего своих господ и повелителей, скорбь и удивление: почему же нет их? И многие поняли: сейчас вернут Михаила Львовича обратно в стрельню. Так оно и вышло: сняли кузнецы оковы с рук и ног Михаила Львовича и вернули его в башню «за пристава».
А после того, прежде чем вышел Глинский на волю окончательно, взял великий князь крестоцеловальную запись у сорока семи бояр и детей боярских, поручившихся за Михаила Львовича пятью тысячами рублей. Если бы старый мятежник сбежал за рубеж, эти деньги были бы с поручников взысканы в государеву казну: Василий Иванович и в этом случае внакладе не оказался бы. И вот, лишь через десять месяцев после того, 28 февраля 1527 года Глинский вышел из неволи и почти сразу же уехал в вотчину свою — Стародуб, стоявший у самой литовской границы в глубине брянских лесов. Однако же не прошло и полугода, как Елена Васильевна уговорила августейшего своего супруга вернуть любимого дядюшку в Москву. А ещё через два месяца женился он на дочери князя Ивана Васильевича Оболенского-Немого — Анастасии, и тем породнился с многолюдным семейством, в котором без числа было и воевод, и наместников, и иных сильных и знатных вельмож. И среди прочих стал ему роднёй и Иван Фёдорович Овчина-Телепнёв-Оболенский.
Судьбе было угодно, чтобы именно в тот год, когда Михаил Львович женился, родич его новой жены князь Овчина был поставлен государем во главе большой московской рати, вышедшей осенью супротив хана Ислам-Гирея.
Ранней осенью 1527 года в Москве снова гудели набатные колокола, и снова шли на берег Оки пешие и конные рати, чтобы остановить сорокатысячную орду крымского хана Ислам-Гирея.
Однако на этот раз русские не стали ждать, пока крымцы перейдут реку, но сами скрытно переправились на южный берег и, внезапно ударив по ордынским силам, повернули татар вспять. И в этой битве первым и самым храбрым среди государевых воевод сказался князь Овчина.
Именно в это время, после того как полки Овчины победителями вернулись в столицу и когда десятки тысяч горожан увидели молодого красавца во главе осиянной славою рати, по Москве пополз слух, что князь Иван и молодая великая княгиня давненько уже строят козни за спиной старого государя. Правда, впервые об этом стали поговаривать сразу же после свадьбы великого князя, но пересуды не выходили из стен боярских хором, а теперь многие досужие умы стали перемывать косточки двум самым красивым и знатным особам, нимало не беспокоясь: а правда ли это?
В ночь на 25 августа 1530 года над Москвой разразилась невиданная гроза. Ещё с вечера стали копиться густые тяжёлые тучи чернее воронова крыла. Они шли низко, едва не цепляясь за маковки соборов и колоколен, окутывая город плотной жаркой пеленой, не пропускавшей нагретый за день воздух. И москвичам казалось, что не в сады, не на улицы и не в огороды вышли они вечером, а попали в тесную курную баню, где нет трубы и дым вместе с паром едва проходит через малое оконце. А когда смерклось, то совсем непонятно стало, отчего опустился мрак: то ли ночь наступила, то ли тучи вконец обволокли Москву?
Предчувствуя беду, замолчали птицы. Даже воронье, беспрестанно кричавшее над старыми садами и кладбищами, и то смолкло.
Воздух совсем уже загустел и недвижной патокой разлился меж землёю и тучами.
И вдруг, враз, едва не дюжина огненных сполохов распорола тьму и, будто повинуясь поданному молниями знаку, со всех сторон рванулись к Москве сокрушительные потоки воздушных вихрей.
Изо всех изб, опасаясь пожара, выскакивали люди, вынося иконы, ларцы, иные пожитки, что получше. Схватив детей, бежали к недалёким от них рекам — Москве, Сетуни, Неглинной, Пресне, Ходынке, Яузе. Те же, у кого в доме и добра и людей было поболе, хватали ведра и бадьи, верёвки и коромысла, багры и лопаты, решившись отстоять нажитое добро.
Сначала буря сорвала с деревьев листья и сухие ветки, потом пригнула молодые деревца, одновременно подняв с земли сор и солому, сено и рогожи, вслед за тем над улицей полетели доски, жерди и всякий мелкий скарб, хранившийся во дворах.
А ещё через совсем малое время стали рушиться крыши ветхих избушек, со скрипом падать заборы и, сокрушая всё, валиться старые деревья.
От ударов бури сами по себе стали раскачиваться колокола на звонницах церквей, вплетая набатный гул в жалобные крики людей, ржание мечущихся лошадей и холодящий душу собачий вой. А ветер не унимался, и молнии огненными стрелами пробивали мглу, и от этого во всех концах города загорелись избы, хлевы, сараи и риги. Ветер срывал клочья огня с одной избы и перебрасывал их на соседние, и швырял их с одной улицы — на другие.
К рассвету буря улеглась. И что было ужасно и дивно — тучи прошли, не обронив ни капли дождя, и пожар можно было гасить только речной и колодезной водою...
Когда за Москвой-рекой заалела заря, ни одно облачко уже не закрывало небосвода. Только синие да серые столбы дыма узкими лентами и широкими полосами неспешно и ровно вздымались к лазури, а на смену сатанинской музыке минувшей ночи нарастал и нарастал шум великих работ, торжествующей и победоносной жизни.
Когда — близко к поздней обедне — загасили последние очаги пожара, растащили тлеющие брёвна и засыпали землёй горячие пепелища, бирючи прокричали по всему городу, что в эту ночь великая княгиня Елена Васильевна родила государю наследника, через несколько дней наречённого Иваном. Это был будущий Иван Васильевич Грозный.
4 сентября — на десятый день после рождения — наследника Московского престола привезли в Троице-Сергиев монастырь.
От тысячных толп пришедших на крестины богомольцев негде было упасть и яблоку. Не только благочестие привело их сюда ныне: ждали православные, осыплет их на радостях золотом и серебром счастливый отец, дождавшийся на пятьдесят втором году жизни сына-первенца.
Пока в Троицком соборе шло крещение, люди, стоявшие вокруг храма, гомонили:
— Неспроста наследника-то в Троицу крестить повезли. Обитель-то святой Сергий построил, а до того как монашеский чин принять, имя ему было — Варфоломей.
— Не пойму, что у тебя к чему?
— А ты смекай. Когда сын-то у государя родился? 25 августа. А это какой день? День апостола Варфоломея и святого Тита.
— Ловко! — подхватывали слушатели.
— А я, православные, в Москве слышал: ходил, бают, по торгу юрод, именем Доментий, и прорицал: «Родится-де вскоре Тит — широкий ум». Вот он, поди, и народился.
Других заботило иное: сколько денег прикажет высыпать сегодня милостыни великий князь? У них и разговоры были под стать:
— Со всех, на кого Василий Иванович допреж сего опалился, ныне, бают, опалу снял.
Надменного вида дородный человек, выказывая близость к государевым делам, пророкотал важно:
— С князя Мстиславского Фёдора Михайловича, да с князя же Горбатого Бориса Ивановича, да с князя Щени Даниила Васильевича, да с дворецкого Ивана Юрьевича Шигоны, а также с многих иных знатных людей государь наш, великий князь, немилость свою на милость переменил.