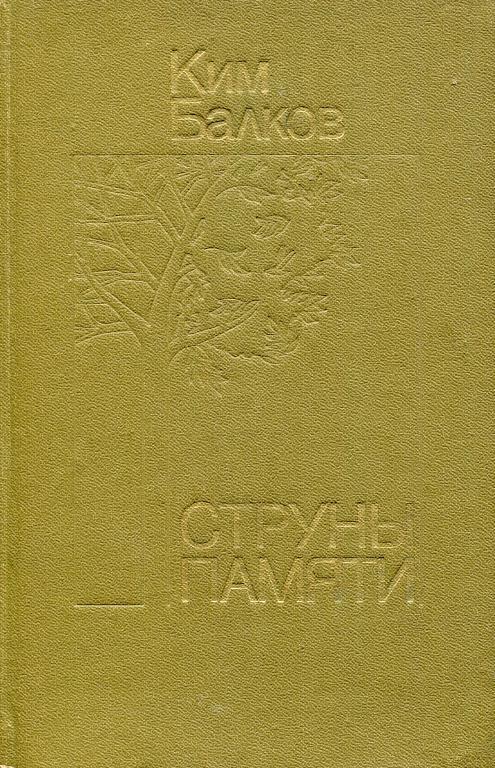что ведали.
Встретил атабека начальник крепости, низкорослый, длиннорукий и широкоплечий человек со странно желтыми злыми глазками. Они одни и светились на его остроносом лице. Высокочтимые улемы говорили, что сей муж из рода кыпчакских эмиров, близко стоявших ко двору великомудрого правителя Хорезма. Так ли, нет ли, кто скажет. Верно другое, сей муж был суров в обращении с подвластными ему и жесток с ревнителями иной веры. Не однажды он хаживал на Русь, и след от этих хождений надолго запечатлелся в памяти россов. Не один раз взметывался над его круглой бритой головой длинный обоюдоострый меч. Но судьба хранила Махмуда (так его звали), и он ускользал от смерти подобно угрю.
Махмуд встретил атабека на пороге высокого деревянного дома, провел в просторную комнату, выложенную изразцами, отчего стены посверкивали чудными, как бы даже неземными гранями, столь ярко и весело играли, касаясь изразцов, солнечные лучи, втекающие ничем не сдерживаемо в широкие окна. Пол был застлан мягкими, приглушающими звук шагов, коврами.
Махмуд провел гостя в передний угол, усадил на подушки и хлопнул в круглые темные ладони. В комнату бесшумно вошли слуги, расстелили перед гостем златотканный дастархан, принесли на серебряных подносах миндалевые пирожные, разрезанные на толстые ломти, сохраняющие тепло южного солнца, дыни, орехи, запеченные в тесте…
Но Бикчир-баши только и взглянул на угощения, поспешно и как бы даже с досадой произнес потребные для случая молитвенные слова. Он старался не смотреть на хозяина, тот вдруг сделался ему неприятен самодовольством и уверенностью, что все будет так, как тому и положено быть, и ничто не в состоянии помешать этому. Все ж, переступив через неприязнь, а это далось ему с трудом, Бикчир-баши спросил хрипло и задышливо, как если бы запершило в горле и стало трудно дышать:
— Чем порадуешь старого воина, почтенный?
— О, если бы я мог, то и одарил бы тебя, Высокочтимый, приятными для слуха вестями, и тогда тело твое, истомленное долгим изнурительным походом, обрело бы необходимый ему покой.
— Что случилось?
Махмуд слегка помедлил, вздыхая и тем не менее не утрачивая как бы въевшегося в поры круглого лица самоудовлетворения, и можно было подумать, что ему жаль атабека, хотя пауза вряд ли имела какое-то отношение к жалости и была что-то другое, скорее, легкой досадой: ведь теперь ему одному придется отвечать за все, что может произойти на Руси, а он чувствовал, что-то должно произойти, сказал:
— Блистательный везирь повелел тебе, покинув войско, двуконь скакать в Итиль, взяв с собой лишь охранную сотню. А еще сказал, чтоб поспешал ты…
Атабек задумался, долго пребывал в несвычном для него состоянии смущения, как если бы плохо исполнил поручение Песаха. Но ведь это не так. Он сделал все, что было велено, заставил росского кагана втянуться в погоню за ним. Но тогда отчего смущение не оставляет его, многоопытного в воинских делах и в суждениях о жизни? Что же он все-таки сделал не так? Атабек еще и еще раз обращался мыслью к последнему походу на Русь, но не умел найти ничего, что стронуло бы с тропы Истины. И, наверное, потому, что смущение, несмотря на душевные подвиги, не исчезало, а даже укреплялось в нем, он едва прикоснулся к угощению и, сопровождаемый синебородым слугой, прошел в отведенные ему покои и прилег на разостланные пуховые одеяла. Во всю ночь он не сомкнул глаз, а едва запосверкивали утренние лучи солнца, в этих местах знобящие и как бы даже придавливающие в сердечной сути человека, совершил омовение зеленоватой водой, сладко, но вместе горчаще пахнущей речными травами, после чего встал на молитвенный коврик и долго, старательно бил поклоны, стремясь вызвать в воображении божественный лик Пророка. Но, к его досаде, не преуспел в этом. Все вспоминался дед по отцовской линии. Та линия вела к хорезмийскому воителю, прославившему свое имя в битвах с буртасами и черными булгарами. Он потеснил их и поставил свои знаки в прежде принадлежавших им землях. Дед не однажды совершал и набеги на Русь по воле царя иудейского, принявшего род его и многие другие роды. Он проверил крепость щита Рюрика, внука Гостомысла и сына его прекрасной дочери Умилы, которая во владении мечом не уступала и знатному гридю, и сказал после этого, что не надо воевать с россами, сильны те не только духом, а и Богами, коим поклоняются тьму лет. Иль совладаешь с россами, знатными еще и в становлении городов, обнесенных каменными стенами?
Но почему-то атабек вспомнил об этом лишь теперь. Седмицу-другую назад у него не возникало и малого желания оборотиться лицом к минувшему. Должно быть, затмила разум Бикчира-баши блистательная победа Песаха над незадачливым князем Хельгой? Должно быть, так. Свет от Истины ярче виден тому, кто слаб и никуда не влеком, кто привык жить малым, как если бы душа в нем истончилась подобно тележной оси на долгой караванной дороге. Но ведь и в леты, славные для каганата, когда многие князья на Руси подчинились воле иудейского царя, можно было увидеть в глазах у россов болезненно острую неприязнь к тем, кто поломал в их жизни.
— Да, да, так и есть, — негромко сказал атабек, поднимаясь с колен. — Что-то мы упустили. А теперь вернешь ли? В силах ли человек управлять движением времени? Не ослабнет ли в духе, совершая неимоверное усилие?
О, если бы он мог!.. Но в том-то и дело, что надломилось и в нем, прошедшем сквозь огонь и воду, как если бы это были обыкновенные знаки, познать которые ему, сыну своего племени, не так уж и сложно. И надломилось недавно. Ехал тогда по северской земле впереди войска с сотней гулямов, вдруг на лесной опушке, слегка отступившей от тропы, приметил низкое и слабое в связях, из тонкого дерева, чуть ли не качающееся на ветру, с медвяно темными, почти слепыми окошками покосившееся жилище. Приметил и невесть почему, как если бы кто-то подталкивал в спину, повернул скакуна к тому жилищу. И, несмотря на упрямое нежелание скакуна, а тот упорно тянул в сторону, словно бы предчувствовал что-то неладное, подъехал к полусгнившим пряслам и вяло и неуверенно, как если бы что-то передалось ему от скакуна, сполз с обшитого блескучим серебром, перемешанным с золоченой крупкой, кожаного седла с высоко вздернутой лукой. Долго стоял, прислушиваясь к звенящей от расшалившегося сиверка тишине, но, может, и не к ней, а к тому, что совершалось в душе, а там совершалось что-то диковинное, едва ли имеющее к нему отношение, что-то придавливающее грустным томлением. Отчего