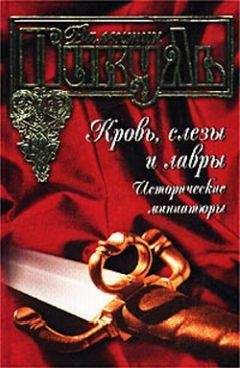Ознакомительная версия.
Еще усталый после скачки из Парижа до Петербурга, Марин был ознакомлен с секретным докладом: «Известно, что виленские и гродненские евреи в большом количестве отправляют наши рублевики в Саксонию посредством корреспондента, живущего в Дрездене, еврея Каскеля; рублевики наши обращаются в тамошний монетный двор, где их еженедельно до 120 000 перечеканивается в талеры. Операция сия продолжается». Марину указали:
– Езжайте в Вильно и Гродно под видом инспекции тамошних гарнизонов и стороною вызнайте секреты сего злодейства, главным в коем является банкир по фамилии Симеон…
Вскоре из Гродно последовал рапорт Марина о том, что главный агент Симеона, «едущий с серебряными государственными рублями за границу, пойман мною и содержится под караулом; вместе с ним пойманы евреи Розенфельд и Зоселович», занимавшиеся преступной контрабандой. Сам же банкир Симеон арестован, но разведка Наполеона сработала столь хорошо, что этот Симеон, вовремя предупрежденный, успел уничтожить все документы о своих финансовых аферах с Дрезденом.
В 1809 году Марина произвели в чин полковника.
– Не знаю, как быть с вами, – сказал ему император. – Вы же больны, вам нужно место потише… Езжайте в Тверь, дабы состоять при тамошнем губернаторе принце Ольденбургском, женатом на моей любимой сестре. Заодно поправите и здоровье.
Марин не счел это назначение честью, друзьям говорил:
– Ох, тошен мне двор, а паче того не люблю принцев… Свое положение в Твери сам же и высмеял в сатире:
Во брани поседев, воспитан под шатрами,
Попал я на паркет и шаркаю ногами.
Смотрю, и новых тьму встречаю я картин:
Тот ролю взял слуги, сам бывши господин,
Иной, слугою быв, играет роль вельможи…
Пребывание в Твери скрашивалось дружбою с молодым живописцем Орестом Кипренским, который создал романтичный портрет Сергея Марина, и поэт говорил художнику:
– Брат Орест, ей-ей, не кривя душою, скажу тебе, что легче стоять в шеренге под пулями, нежели ублажать придворных дураков каламбурами… У меня все уже переболело внутри!
– А что болит-то? – спрашивал Кипренский.
– Аустерлиц и Фридлянд, – отвечал Марин. – Мечта о теплой лежанке отодвигается приступами Наполеона. Вот уж не знаю, выживу ли в будущей войне? Но готовлю к смерти себя…
Поэт жил скромнейше, и только золотой жгут аксельбанта выделял его среди военного люда. В карты играл умеренно, шампанского не пил, но почему-то невзлюбил придворной музыки.
– Черт побери! Расцелую могильный прах того, кто первый в мире выдумал рифму, но кто догадался придумать ноты?..
Близился 1812 год. «Европа с Францией алкала России изменить судьбу, – предрекал Марин в стихах, – вселенна с ужасом взирала на страшную сию борьбу». Боль была, а покоя не было.
– Да, не люблю нот, – говорил Марин, – но в полках уже играют мой «Преображенский марш», с которым следовать до Парижа. Сам его сочинил – под эту же музыку и погибну!
1812 год жестоко и безжалостно попрал все личные интересы людей, заставил позабыть прежние обиды, нападение Наполеона не оставило равнодушных: в этом году все стали патриотами, а великое единство народа помогло России выстоять перед натиском многочисленных орд зарвавшегося корсиканца.
Звук труб гласит врагов стремленье.
Спешу итти в кровавый бой.
Прости, о Лила! но в сраженье
Несу в душе я образ твой.
Когда же смерть там повстречаю,
Друг милый, не круши себя.
Щастлив мой жребий: жизнь скончаю
Я за отчизну – за тебя…
Сергей Никифорович предстал перед князем Багратионом:
– Прошу, как милости, состоять при вашей особе.
– Милости просишь, а чего морщишься?
– Болит… вот тут… под сердцем, – сознался Марин. Он стал дежурным генералом армии. Состоять при Багратионе не всякий храбрец отваживался. Известно, что сам Багратион смерть презирал, а его адъютанты, подражая начальнику в храбрости, не заживались на этом свете, падая в боях один за другим, как подкошенные снопы. Багратион сам оберегал поэта.
– Ты в свалку не лезь, – говорил он Марину, – на это дело помоложе и здоровее тебя найдутся. Твое дело иное…
«Иное» дело было утомительным: Марин ведал снабжением армии, доставал для солдат полушубки, солонину и лыжи. Кричал:
– Онучей и лаптей на сто тысяч персон! Срочно…
Война была общенародной, безжалостной, партизанской.
Денису Давыдову он писал: «Поздравляю тебя с твоими деяниями, они тебя – буйная голова! – достойны… на досуге напишу тебе оду . Я болен, как худая собака, никуда не выезжаю, лихорадка мучит меня…» Марин составил для истории отчет о том, как была оставлена Москва, и особо выделил, что через его канцелярию прошли тысячи пленных французов. «У нас жил (при штабе) один пленный полковник из авангарда, так он уверял нас честью, что все сие время они (французы) не взяли в полон ни ста человек наших, а дезертиров русских даже не видывал…»
Вот так! От самых берегов литовского Немана отступали до Бородино, и никто не поднял лап кверху с мольбою: «Мусью, дай пардона…» Сами «пардона» не просили, но и врагам «пардона» не обещали: в этом была суть жестокой народной войны!
Дежурный генерал при штабе Багратиона, он бы, наверное, еще мог дожить до своей «лежанки» с милой женой, но поэта надломила гибель Багратиона в Бородинском сражении.
В неизвестной нищей деревушке, засыпанной снегами, Марин отогревался на печке, накрытый мужицким тулупом. Здоровье становилось все хуже, болела грудь. Слабеющей рукой, из которой вывертывался карандаш, Сергей Никифорович писал свои последние стихи – уже не сатирические, а героические.
– Наполеон – не Цезарь, – рассуждал Марин. – Наполеон пришел, увидел и… пропал! Так ему, ракалье, и надобно…
Багратион, еще до гибели своей, докладывал в Петербург о тяжкой болезни Марина: в конце октября Кутузов тоже сообщал императору, что присутствие Марина при армии необязательно.
– Не вижу иного выхода, – говорил Кутузов, – кроме единого: пусть Марин едет в столицу ради излечения…
В столице Марин не мог побороть болезнь, и 9 февраля 1813 года он скончался за Нарвской заставой – на даче своей верной «Лилы». И там, только там, нашлось место для его последней «лежанки». При вскрытии его тела врачи обнаружили французскую пулю, засевшую возле самого сердца еще со времен Аустерлица. Все хлопоты по захоронению поэта Вера Николаевна Завадовская взяла на себя. Но – как замужняя дама – она делала это втайне, дабы не вызвать лишних кривотолков в обществе.
Скульптора она даже предупредила:
– Изобразите женщину, припавшую к праху усопшего, но только, ради Бога, не обнажайте черты моего лица… На постаменте надгробия были высечены слова:
О, мой надежный друг!
Расстались мы с тобой,
И скрылись от меня и счастье и покой…
Это были стихи самой Веры Николаевны, но она никогда не признавала их своими. Скульптор представил ее плакальщицей над могилой, а лицо Завадовской он деликатно упрятал драпировкой траурного крепа. Однако ваятель укрыл не все ее лицо, а потому современники отлично догадывались – кто застыл над могилой поэта в неутешной скорби.
Марина не было в живых, когда под звуки «Преображенского марша» русская гвардия входила в Париж, громыхая боевыми литаврами. Вере Николаевне предстояло прожить еще очень долгую жизнь, но смерть не соединила влюбленных: много позже графиня Завадовская нашла вечное упокоение в безвестной глуши Порховского уезда Псковской губернии.
В числе ее потомков была и Софья Андреевна Берс, ставшая женою Льва Толстого, и писатель в своем романе «Война и мир» не забыл помянуть, что даже в гуле Бородинского сражения Кутузов просит читать ему стихи Сергея Марина…
Ознакомительная версия.