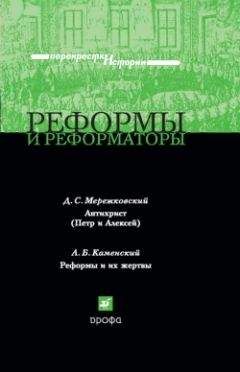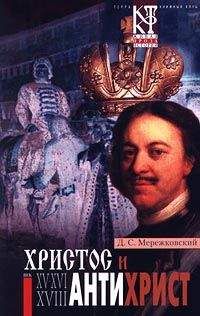А мухи все жужжат, жужжат; и маятник тикает; и чижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху и крики детей – со двора. И острый красный луч солнца тупеет, темнеет. И разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою, японский поп подмигивает птице Малкофее. И все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы.
Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смилуйся, батюшка, надежда российская!» – прозвучало в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого – и, как режущий глаза багровый луч солнца, залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша «надежда российская»! Водка, сон, лень, ложь, грязь и этот вечный подлый страх перед батюшкой.
Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать! «Пострадать за слово Христово, – прозвучали в нем опять слова Докукина. – Человеку повелено от Бога самовластну быть». О да, скорее к ним, пока еще не поздно! Они зовут и ждут его, «таинственные мученики».
Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратное – и замер весь в ожидании, прислушиваясь.
В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило девять, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьевича Большого.
– Ехать пора. Одеваться прикажете? – проворчал он, по своему обыкновению, с такою злобною угрюмостью, точно обругал его.
– Не надо. Не поеду, – сказал Алексей.
– Как угодно. А только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться.
– Ну, ступай, ступай, – хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то, Афанасьича, он и драл вчера за волосы.
Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно.
Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серою сеткою.
А голова в дверях все еще торчала как прилепленная, не подаваясь ни взад ни вперед.
– Так прикажете одеваться, что ли? – повторил Афанасьич с еще большею угрюмостью.
Алексей безнадежно махнул рукою.
– Ну, все равно, давай!
И, видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил:
– Еще бы померанцевой, опохмелиться? Дюже голова трещит со вчерашнего…
Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать: «Не твоей бы голове трещать со вчерашнего!»
Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига – все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, более страшною, чем вопль и рыдание, безнадежною зевотою.
Через час, вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к Летнему саду.
В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в Летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерее над Невою.
«Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля», – хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, государыня посылала ему вести о любимом детище: «Огород наш раскинулся изрядно и лучше прошлогоднего: дорога, что от палат, кленом и дубом едва не вся закрылась, и когда ни выйду, часто сожалею, друг мой сердешненькой, что не вместе с вами гуляю». «Огород наш зелененек стал, уже почало смолою пахнуть», то есть смолистым запахом почек.
Действительно, в Летнем саду устроено было все «регулярно по плану», как в «славном огороде версальском». Гладко, точно под гребенку, остриженные деревья, геометрически правильные фигуры цветников, прямые каналы, четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи – «першпективы», высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал, – «людей убеждали, чтобы гулять, а когда утрудится кто, тотчас найдет довольно лавок, феатров, лабиринтов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое всесладостное уединение».
Но царскому огороду было все-таки далеко до версальских садов.
Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромные северные цветы – любимый Петром пахучий калуфер, махровые пионы и уныло-яркие георгины – росли здесь привольнее. Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах из-за тысяч верст – из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии, – тоже хирели. Скудно питала их слабые корни чужая земля. Зато, «подобно как в Версалии», расставлены были вдоль главных аллей мраморные бюсты – «грудные штуки» – и статуи. Римские императоры, греческие философы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики да шитые кафтаны, богини – кружевные фантажи да роброны и, точно сами удивляясь не совсем приличной наготе своей, походили на жеманных кавалеров и дам, наученных «поступи французских учтивств» при дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского.
По одной из боковых аллей сада, по направлению от большого пруда к Неве, шел царевич Алексей. Рядом с ним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках, в потертом немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека, внезапно разбуженного. Это был цейхдиректор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурге-городке печатного дела мастер Михайло Петрович Аврамов.
Сын дьячка, семнадцатилетним школьником, прямо от Часослова и Псалтыри, он попал на торговую шняву, отправляемую из Кроншлота в Амстердам с грузом дегтя, юфти, кожи и десятка «российских младенцев», выбранных из «ребят, которые поострее», в науку за море, по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов «был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован». От природы неглупый, даже «вострый» малый, но, как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от Псалтыри и Часослова к басням Овидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто подобное родимчику, который делается у перепуганных со сна маленьких детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечной растерянности, ошеломленности.
– Государь-царевич, ваше высочество, я тебе как самому Богу исповедуюсь, – говорил Аврамов однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал. – Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами, идолам языческим…
– Каким идолам? – удивился царевич.
Аврамов указал на стоявшие по обеим сторонам аллеи мраморные статуи.
– Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые; мы же стыдимся того, но бесстыдные поставляем кумиры. Иконы Божьи имеют на себе силу Божью; подобно тому и в идолах, иконах бесовых, пребывает сила бесовская. Служили мы доднесь единому пьянственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому, во Всешутейшем соборе с князем-папою; ныне же и всескверной Венус, блудной богине, служить собираемся. Называют служения те машкерадами и не мнят греха, понеже, говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет, болваны же их бездушные в домах и огородах не для чего-де иного, как для украшения поставляются. И в том весьма, с конечной пагубой души своей, заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют…
– Ты веришь в богов? – еще больше удивился царевич.
– Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги суть бесы, кои, изгнаны именем Христа распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастные, и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы не сущими – до времени. Когда же оскудело древнее христианство и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыползли из нор своих: точь-в-точь как всякое непотребное червие, и жужелица, и прочая ядовитая гадина, излезая из яиц своих, людей жалит, так бесы из ветхих сих идолов – личин своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Помнишь ли, царевич, видение иже во святых отца Исаакия? Благолепные девы и отроки, их же лица были аки солнца, ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские, и, утрудив его, оставили еле жива, и, так поругавшись, исчезли. И познал святой Авва, что были то ветхие боги эллино-римские – Иовиш[2], Меркуриуш, Аполло, и Венус, и Бахус. Ныне и нам, грешным, являются бесы в подобных же видах. А мы любезно приемлем их и в гнусных машкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем, да все вкупе в преглубокий Тартар ринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того, невежды, сколь страшнейшие суть самых скаредных и черных эфиопских рож сии новые, лепообразные, солнцеподобные, белые черти!