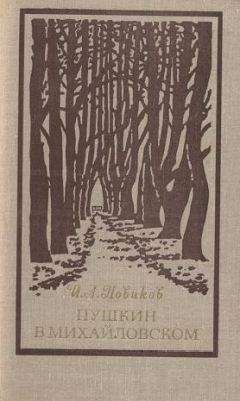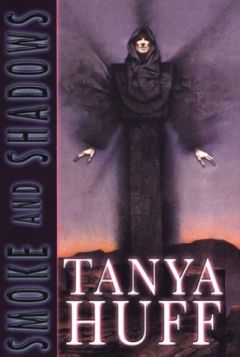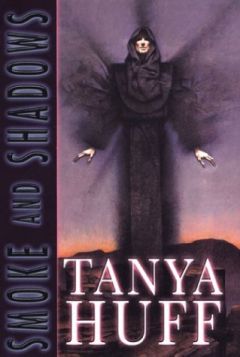Ознакомительная версия.
— Пушкин кивнул головой. Рот его был приоткрыт, но он не произносил ни слова.
— Неужто поссорились?
Он сделал жест, как будто хотел снять наконец шляпу, но только провел рукою по волосам. Рассеянно он взглянул на руки. Тяжелое золотое кольцо блеснуло на пальце.
— Я, кажется, к вам без шляпы и без перчаток. Простите меня.
— Я пошлю человека за вашею шляпой. Хорошо, что вы не оставили там головы.
— Нет, головы я еще не потерял, — ответил он после молчания, — но…
— Что же? — спросила она и подошла к нему ближе. — Ну, признавайтесь! — И слегка поерошила курчавые его, с золотистым отливом, темные волосы.
Он взглянул на нее снизу голубыми своими глазами, В них уже не было ни смятения, ни торопливости. Вере Федоровне в эту минуту он показался обиженным мальчиком.
— Меня высылают. На родину. И она отказалась со мною… Я хочу на корабль, да и… по морю! Может быть… да, помогите мне в этом.
Это была действительно мальчишеская мысль. На секунду у Вяземской кольнуло на сердце: зависть не зависть, но все же капелька горечи: «Как он, однако, влюблен!»
Напротив трюмо отражало сидящего перед ним молодого человека со скрещенными стрекозою ногами, матовым цветом лица и высоко откинутой упрямою головой; видела она и себя рядом с ним: худую и узкую, но все же с широкою костью и с этим — увы! — некрасивым, но характерным лицом, на котором единственно что хорошо было по-настоящему — это мягкие каштаново-золотые глаза. И глаза эти, очень умевшие смеяться, глядели сейчас очень сосредоточенно. «Она отказала… но в чем? Ужели же мог он серьезно подумать, что она согласится бежать? Ведь если бы Воронцова не знала давно, что его отъезд предрешен, вряд ли бы даже…» Но и про себя она не договаривала, ей не хотелось быть злой.
И, успокоив немного взволнованного поэта, она принялась обсуждать вместе с ним, вовсе по-деловому, эту попытку скорого бегства. Под конец она и сама увлеклась необычностью этой затеи. А Пушкин вскочил и стоял перед нею, готовый тотчас же что-то начать, незамедлительно действовать.
— Я нынче же сбегаю на корабли. Я все разузнаю.
Мысль эта — бежать! — его обуяла. Что-то взметнулось в нем от его же «Цыган», еще не законченных, и от бродивших в нем свежих воспоминаний о кочевьях и таборе. Пусть хоть и дикая, да лишь бы свобода! Ночные морские мечты снова в нем закипали. Он потер себе шею, как бы теснимый тугим шелковым галстуком, скрывавшим ворот рубашки.
— А деньги?
— Денег найдем! — заговорщицки ответила Вяземская.
Он побывал-таки действительно и на кораблях, взяв с собою Морали, полумавра и полунегра, к которому часто заглядывал в последнее время «отдохнуть от эпиграмм».
Пушкин любил от души этого «сына Египетской земли», хоть и был мавр Али из Туниса. Морали был отлично сложен; желто-бронзовый лик его был рябоват. Когда-то и сам был капитаном, но для капитана несколько слишком богат, и оттого Пушкин его величал, полушутливо и полусерьезно, «корсаром в отставке».
Мавр оживился при одном слове «корабль». Он облекся для выхода в полный парадный костюм. Поверх шелковой красной рубахи статные плечи его облегла суконная алая куртка, богато шитая золотом; весь он под солнцем горел. Турецкие башмаки на ногах и чулки до колен. Два восточных платка довершали наряд: один опоясывал по талии короткие его шаровары, скрывая в цветных своих складках целый набор пистолетов; другой платок, белоснежный, обрамлял массивную его голову. Он не расстался и со своею огромною железной палкой, похожей на лом.
Прихватил свою палицу также и Пушкин. Он не оставил и здесь эту свою привычку, приобретенную в Кишиневе.
Так они оба и шествовали мимо платанов и тополей, меж сюртуков и халатов, быстрых ребят и медлительных женщин с корзинками, минуя немало знакомых подъездов и ресторанов. Особняки перемежались малыми домиками; кошки, свернувшись в клубок или распластавшись ничком, лежали на жарких камнях во дворе. Из восточных кухмистерских тянуло пахучим барашком и перцем, маслинами и миндалем, разноцветные фрукты покатыми горками светились в палатках. Пушкин все более загорался своей новою мыслью. Черный сюртук ладно охватывал его небольшую фигуру, смуглый румянец пылал на щеках. Он быстро кивал головой многим знакомым: мужчины на дрожках, дамы в колясках. Рядом с ним выступал Морали, высокий, плечистый и важный: из-под снежной чалмы углем блистали глаза. На обоих на них оборачивались и глядели им вслед.
Под истомленным, выцветшим небом плыл ветер от моря. В порту, колыхаясь, чернели крутыми боками суда, и паруса плескались лениво на отдыхе. Отдыха не было людям: чистили, мыли, грузили, ругались. Ленивый и подвижной, угрюмый и беззаботный разноязычный народ.
На кораблях они побывали не раз, но ничего делового, конечно, не вышло, хоть и была эта мечта — покинуть Россию — совсем не простой; минутной фантазией. Еще этой зимой как-то писал он младшему брату Левушке о том, как бы тихонько взять трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь.
Но Морали, хоть и корсар, на кораблях, где их встретили шумно-гостеприимно, проявил свою удаль главнейше в крепких напитках. Пушкин же, сразу понявший тщету своего предприятия, ничуть от пирата не отставал и, разойдясь, щекотал своего янтарного друга.
Так пировали они целых три дня. Пушкин пил много, но не хмелел, голова оставалась ясна.
Вера Федоровна между тем заботливо его собирала в дорогу. Пушкин к ней забегал ненадолго. Она крепко журила его, и он не обижался. Старый дядька Александра Сергеевича, Никита Козлов, со всеми делами обращался теперь непосредственно к ней, и даже коляску в дорогу, которую он деловито выглядел и, крепко поторговавшись, купил, осматривала и принимала все она же — заботливый друг.
Ей казалось теперь, что она уже все понимает. За последние дни только раз видела Елизавету Ксаверьевну: та была необычно мрачна и, кажется, сильно страдала. Это понравилось Вяземской, и во многих мыслях своих очень она заколебалась. Что же до Пушкина… Пушкин уедет, как уехала красавица Ризнич, о которой она только слыхала; и от этой разлуки не умер, однако, поэт. Кто-то недаром сказал про него, что предметы его увлечений могут меняться, но страсть остается при нем одна и та же. Приблизительно так начинала думать теперь и она.
И лишь об одном Вера Федоровна даже и не догадывалась — а это второю занозой сидело у Пушкина в слишком доверчивом сердце, — не знала его подозрений по поводу близкого друга — Александра Раевского. Подозрения эти вспыхнули остро, внезапно, хотя кое-что, по правде сказать, и ранее смутно мерещилось. Недаром однажды мелькнуло в письме: «…да и не очень-то знаю, что такое мои друзья»; и писал ведь как раз по поводу своих обострившихся отношений с Воронцовым… Но вот именно что-то было такое в Елизавете Ксаверьевне в эту последнюю их бурную встречу, что осенило его.
— Раевский же вас предупреждал!
— О чем? Но мы ведь с ним вместе писали письмо об отставке! Не этот ли друг, имевший над ним страшную силу, почти что магическую, — не он ли устроил все так, что его выгоняли теперь из Одессы? И не он ли тайком порабощает графиню? Но об этом ни звука — ни Вяземской и никому; даже в себе старался тушить — или залить — едкие мысли.
Петр Андреевич Вяземский должен был Пушкину за «Бахчисарайский фонтан», тот не хотел всего брать: по изданию были расходы, да у Веры Федоровны и у самой не было денег; и однако ж — достала; быть может, у кого-нибудь и сама заняла, по отдала ему все. Кроме того, Пушкин как раз выиграл в карты, но шестисот рублей ему не доплатили, он взял их у Вяземской же: должник его обязался ей возвратить. Сборы покончены; ехать!
Двадцать четвертого июля Воронцов из Симферополя распорядился о Пушкине одесскому градоначальнику графу Гурьеву, а 29-го от Пушкина отобрана была собственноручная подписка о выезде и о маршруте; 30-го вечером слушал он оперу, а 31-го уже выехал — утром.
Пушкин и занимал и расплачивался. Перед самым отъездом он распахнул окно в клубном доме, где жил, откинул рукой занавеску и перегнулся на улицу. Шумела под ним конская биржа.
— Эй, кому я там должен!
Должен был многим, и все услыхали. В том числе и извозчик Береза получил свое полностью и даже с прибавкой за долготерпение.
Вяземская, проезжая мимо, видела всю эту «народную сцену» и не могла не рассмеяться.
Самое их расставание было коротким. Княгиня к нему чуть наклонилась, поглядела, как в синее море, в глаза своего Александра и, крепко зажав бедовую эту кудрявую голову, сильно и коротко притянула к себе, тотчас же, однако, и отстранив. Он ее с чувством, с горячностью поцеловал.
— Все ничего, Александр! Мы не забудем вас. Мы будем писать…
Это коротенькое и многозначительное «мы» было горячим и дорогим ему словом. Быстро он тронул где-то между своих сжатых бровей и повернулся на каблуках.
Ознакомительная версия.