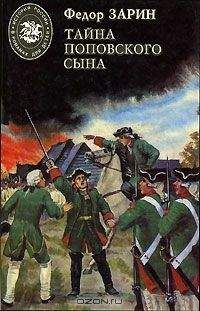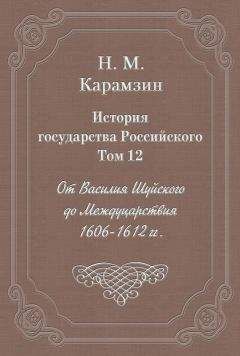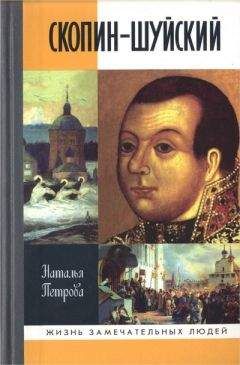— Указ! Указ где?
— Указ сейчас дьяк принесет. Пишут. Меня государь послал, чтоб не опоздать.
Палач не менее других рад случившемуся. Гаркает вниз помощнику:
— Спирька-а-а…
Тот догадлив, не зря в подручниках обретается. Швыряет княжий кафтан вверх прямо в руки Басалаю.
Сам князь Шуйский от этой новости едва Богу душу не отдал. Бывает и такое от радости. Ноги в коленках ослабли, трясутся, зубы стучат. Басалай напяливает кафтан на обалдевшего князя.
— Во, Василий Иванович, не зря я время-то тянул, не зря.
— Спасибо, Басалаюшка, — бормочет севшим голосом Шуйский.
— Теперь ты вроде внове народился. А?
— Эдак, эдак, братец.
— Вот царь-то наш Дмитрий Иванович каков. А? Умница. Справедлив. Все ведает, что народу надобно. Все.
Шуйский от счастья почти обезножил, идти не может. Басалай помогает ему спуститься с помоста. А там откуда ни возьмись слуга князя Петька кинулся навстречу, схватил руку Шуйского и, заливаясь слезами, целовать начал.
— Василий Иванович… Василий Иванович…
Шуйский гладит другой рукой Петькину лохматую голову и наконец-то уясняет для себя окончательно: «Жив! Живу! Помилован!»
Князь Скопин-Шуйский прискакал домой на коне, въехал в ворота, кинул повод подбежавшему конюху:
— Напои, дай овса и не медль. И готовь мне колымагу, ту, что полегче.
Встревоженная мать встретила его в прихожей.
— Ну как, Миша?
— Все. Помилован Василий Иванович.
— Слава те, Господи, — закрестилась княгиня. — Обедать будешь?
— Не. Выпью сыты[8] да поеду.
— Куда же? Сегодня ж воскресенье, Миша.
— Царь в Углич посылает.
— Зачем?
— За царицей Марфой Нагой.
— За Марфой? — удивилась княгиня. — Но почему именно тебя?
— Хых, — улыбнулся Михаил. — Он когда согласился помиловать Шуйского, так и сказал: «А теперь, Михаил Васильевич, ты мне услужи, съезди в Углич, привези мою мать царицу Марфу».
— Он что? Спятил? Она ж может не признать его.
— Признает, мама. Куда она денется? Дни три тому туда поехал постельничий царя Семен Шапкин, он уговорит.
— А зачем же еще тебя шлет твой царь?
— Для чести, мама, для почету. Царскую мать должен князь везти, не менее. А из всех Рюриковичей Дмитрий мне только и доверяет.
— М-да, — вздохнула с горечью княгиня. — Велика честь, куда уж. От такого доверия хоша головой в прорубь.
— Ну куда денешься, мама? Кому-то я должен служить? Служу русскому престолу. Я же не виноват, что на него столько желателей.
— Я тебя не виню, сынок. Просто обидно за тебя, что к твоему взросту такое время приспело. Разве ж я тебя для этого вора растила?
— Ну, мама.
— Ладно, ладно. Иди пей сыту да с женой попрощайся. Я распоряжусь тебе на дорогу стряпни в корзину нагрузить.
Скопин-Шуйский в сопровождении полусотни конных стрельцов прибыл в Углич вечерней порой, когда во дворах хозяйки доили коров, воротившихся с пастьбы.
— Давай к приказной избе, — велел кучеру князь.
Войдя в переднюю избы, Скопин увидел справа на залавке у печи мужика, клевавшего носом. Не то сторож, не то рассыльный.
Князю пришлось кашлянуть, дабы разбудить его. Мужичонка ошалело вскочил и, выпучив глаза на важного гостя, отрапортовал:
— Никак нет, не сплю я.
— А я разве спорю, — улыбнулся Скопин. — Скажи-ка лучше, братец, где у вас царский посланец Шапкин.
— Господин Шапкин в красной горнице, — указал мужик на дверь. — Изволят трудиться.
Как оказалось, господин Шапкин в гордом одиночестве «трудился» над корчагой с хмельным медом, закусывая вяленой рыбой. Увидев гостя, обрадовался:
— А-а, Михаил Васильевич, с прибытием вас. Я вообще-то Пушкина ждал, государь сказал — его пришлет с охраной.
— Вот, как видишь, меня послал.
— А я слышу топот копыт, ну, думаю, Пушкин прибыл, — заплетающимся языком говорил Шапкин, наполняя кружку хмельным. — Выпьешь, князь?
— Отчего ж не выпить. Только давай, Семен, решим сначала, где стрельцов разместить.
— Это проще пареной репы, — сказал Шапкин и крикнул: — Эй, Пахом! Подь сюда.
В дверях явился тот самый мужичонка, «клевавший» носом в передней.
— Выспался, хрен луковый?
— Никак нет… тоись…
— Вот что, Пахом, там на улке конные стрельцы, отведи их на постой в Покровский монастырь. Я с настоятелем договорился. Токо скажи им, чтоб коней в ноле не пускали. Разбойники покрадут.
— А как же кормить коней-то?
— Это не твое дело. Пусть с монахами договариваются, у них овес есть, продадут. Могут и зеленки подкосить. Ступай.
Когда мужик ушел, Шапкин извлек из стола вторую обливную кружку. Наполнил обе.
— Ну за встречу, князь.
Выпили, стали обдирать рыбины. Шапкин посоветовал:
— Поколоти ее об стол как следует, князь, легче обдирать будет.
— Что и тут разбойничают, — спросил Скопин, колотя рыбиной о край стола.
— А где счас не разбойничают, Михаил Васильевич? В державе развал, все воюют, сеять некому, а есть все хотят. Какой смерд посеет, соберет хлеб, так ведь отберут, еще, глядишь, и самого прибьют. Так лучше палицу альбо рогатину в руки и иди на дорогу проезжих грабить. В иных деревнях все мужики разбоем промышляют, а вон под Талдомом сам помещик с ними в атаманах.
— Уж не он ли на нас налетел? Мы под Талдомом шатры на ночь ставили. Они наскочили ночью. Хорошо, сторож бдел, стрелил из пищали. Стрельцы вскочили, быстро разобрались с ними! Двух убили, одного ранили. Хотели гнаться за убегавшими, я не разрешил.
— Пошто?
— Темно ведь. Место незнакомое. Нарвутся на засаду. А мне людей терять никак нельзя, не за тем послан.
— Пожалуй, ты прав, князь. Ну что, Шуйского казнили?
— Помиловал царь. Отправил в ссылку в галицкие города.
— А Дмитрия с Иваном?
— То же сослали.
— Поди, обижаешься за дядьев-то?
— Они не дети, знали, на что шли.
Выпили по второй. Скопин спросил:
— Где царица?
— В Богоявленском монастыре иночествует.
— Как ты с ней? Уговорил?
— А куда она денется. Выбирать не из чего. Я ей так и сказал: «Выбирай, мол, матушка, жить в Кремле да в почете или у черта на куличках в норе барсучей». Хе-хе. Что она, дура?
— Согласилась?
— Конечно. Я ей все обсказал, как, мол, увидишь его, обними, к сердцу прижми, ежели сможешь, слезу пусти. А главное, народу молвь:
— Он это! Он! Что, мол, ты без меры рыдая.
— А как если за того убитого спросят?
— Велел говорить ей, мол, сына поповского схоронили заместо Дмитрия, чтоб от Годунова спасти царевича.
— Ну что ж, правдоподобно, Борису царевич очень мешал, Очень.
— Вестимо.
Воротившийся вскоре Пахом принес из княжей колымаги корзину с оставшимися там припасами. За что Шапкин налил ему чарку хмельного.
— Выпей, хрен луковый.
Пахом перекрестился, молвил:
— Ваше здоровьичко, — и выпил медленно, смакуя. Затем принес огня, возжег свечи в шандале.
Посланцы царя усидели-таки корчагу и решили тут же и почивать. Шапкина совсем развезло, он едва языком ворочал:
— Пахом, стели и князю тут-ка.
Слуга князя Федька принес ящик с пистолетами, поставил под лавку, на которой было постелено Скопину.
— Ты где ляжешь? — спросил князь.
— Как обычно, в телеге, Михаил Васильевич.
— А кони?
— Кони в сарае, я им овса задал.
Пахом залез в передней на печь, предварительно закрючив все двери. И вскоре оттуда донесся густой храп мужика. Очень быстро уснул и Шапкин и тоже храпел, тоненько подсвистывая.
Князю не спалось, он ворочался на неудобной лавке, думая о том, как повезет инокиню-царицу Марфу, пытаясь представить, какая она есть. То она представлялась ему седой злой старухой, то красавицей. Он знал по рассказам, что Грозный великий женолюб был, красивых женщин мимо не пропускал. Вероятно, и последняя жена его Мария Нагая не уродкой была.
Лишь когда загорланили первые петухи, подумал: «Пожалуй, пора спать» — и неожиданно обнаружил, что все еще горят свечи. Никто не догадался их потушить.
«Может, из-за них и не сплю», — решил князь и, слезши с лавки, прошлепал к столу и, дунув на свечи, погасил.
Еще не успел умоститься на лавке, как заворочался, закряхтел Шапкин и вдруг спросил негромко:
— Не спишь, князь?.
— Да вот что-то никак… может, из-за света.
— А я вишь напротив, ты свечи погасил, я и вспопыхнулся.
Немного помолчав, Шапкин спросил вполне трезвым голосом:
— Вот ты князь, Михаил Васильевич, как ты думаешь: долго наш процарствует?
Скопин насторожился: спрашивал-то самый близкий к царю человек — постельничий. И еще неведомо для чего спрашивает, может даже по тайному велению царя. «Только мне еще не хватало на плаху», — подумал Скопин, а вслух сказал: